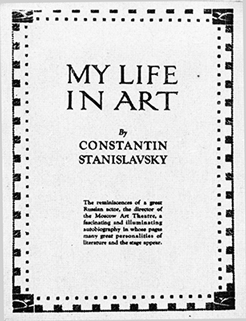
Завершаем публикацию главы из книги Риммы Кречетовой о К.С.Станиславском в серии “ЖЗЛ”, готовящейся в издательстве “Молодая гвардия”. Начало см. в №№ 16, 17, 18, 2013.
Казалось бы, все усилия потерпели крах. Реальная жизнь на гастролях никак не соотносится с теми идеями, которые он ставил перед искусством театра с самых первых своих актерско-режиссерских опытов. Как никогда ему ясно, что на “острове”, который они сотворили с Вл.Ив., не произошло никаких фундаментальных перемен. Природа актера оказалась устойчивой по отношению к благотворным влияниям. Интеллигентность, отсутствие закулисной пошлости, непременных интриг – все оказалось результатом искусственного хирургического вмешательства, было подавлено страхом перед изгнанием из обители, но не превратилось во вторую натуру. Что-то важное не было ими учтено, чего-то его этическое учение не сумело предвидеть. Как не сумели это предвидеть и те, кто выпустил призрак коммунизма гулять по Европе. Человек оказался устойчивее к давлению извне, он упорно сохранял свои прежние качества в условиях совершенно иного социального строя. Точно так и актер – не захотел измениться реально, он лишь надел новую маску. На американских гастролях, в момент трудный для всех, маска эта упала, и перед К.С. появились словно незнаемые им прежде люди, носившие знакомые имена и фамилии.
“Любовная лодка разбилась о быт”, – написал Маяковский в предсмертной записке. О театральный быт готов был разбиться (для стороннего глаза хорошо оснащенный, устойчивый на плаву) и корабль Станиславского. Безусловно, для него это было трагедией. И, быть может, именно в эти дни в его душе скользнуло вдруг не столько разочарование в собственных постулатах, сколько в “человеческом материале”, который его окружал. Каждый заботится лишь о собственной выгоде, никто – о театре, о его репутации. И – сплошные замены, замены, замены. Сам он безропотно играет чужие роли. Уже немолодой человек (ему только что исполнилось 60), обремененный огромным количеством забот по руководству гастролями, он выдерживает по две недели ежедневных спектаклей (иногда – два раза в день). Соглашается на любые вводы, если оказывается, что основной исполнитель отсутствует. Какая горькая ирония: ведь в заметках, предварявших гастроли, он так уверенно продиктовал свои требования. Сам К.С., по свидетельству той же Бокшанской, играет прекрасно, на высшем пределе таланта и мастерства. Наверное, надеется преподать урок остальным. Но – они, как выясняется, уже не способны учиться.
В Америке он живет одиноко.
Бокшанская и Таманцева жалеют его, пытаются скрасить это его одиночество. Вот пошли навестить, вот пообедали вместе… Но кто знает, возможно, в те дни К.С. ценил как раз одиночество. Бокшанская и это чутко улавливает. Действительно, о чем он мог говорить с этими молодыми женщинами, полными энергии и любопытства к американскому миру с его кинематографом, эстрадой, его грандиозными шоу. Наконец, в не последнюю очередь, с его магазинами, где большинство труппы присматривало для себя и близких доступные по цене, но невероятные для обнищавшей России, “мелочи”. Вряд ли он был расположен долго поддерживать такую беседу. Говорить о театре? Но они не знали этот театр в его лучшие годы, а обсуждать сегодняшние события, выслушивать сплетни… Он устал от собственных своих размышлений по этому поводу. Единственное, о чем ему всегда хотелось говорить – его “система”. Но о ней вспоминать было не время, не место. При срочных вводах, отсутствии дисциплины, падении уровня спектаклей, о какой “системе” могла идти речь? Опять с иронией можно вспомнить его предгастрольную “записку”: “Халтуры я не потерплю”. Бедный идеалист…
И вот они пили чай, ели торт, принесенный гостьями, и, наверное, обе стороны ждали, когда же этот вечер закончится. Проводив визитеров, К.С. мог, наконец, свободно отдаться “двоению”. В скромном номере маленького отеля он был один, но вовсе не одинок. Он мысленно уходил в мир будущей книги, которая заставляла не только воскрешать картины былого (“на старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною…”), но осмысливать, формулировать и собственную “жизнь в искусстве”, и движение самого искусства сквозь время.
Книга, пожалуй, спасала его. Прошлое светло встало между ним и действительностью.
Работа мысли “оттягивала”, подобно медицинским банкам, тоску души. Возможно, эта “случайная” книга, которую он согласился писать ради так необходимых для семьи денег, защитила К.С. от окончательного разочарования, позволив ему неожиданно и счастливо объясниться с потомками. Противоречивое мироощущение тех дней, о котором он в ней умолчал (как, впрочем, умолчал о многом существенном из своей внутренней жизни), стало энергетически мощным подтекстом книги. Личная тайна гения, спрятанная им ото всех, стояла за текстом, придавая ему обаяние, до сих пор магически воздействующее на читателя.
Он жил в те дни в двух поразительно разных мирах. Не позволял миру реальной советской России проникнуть в тот ее прежний мир, бывший миром его детства, молодости, миром больших социальных и художественных надежд. В его книге нет бессильной ярости “Окаянных дней” Бунина, нет скрываемого от посторонних глаз болезненного отчаяния Блока. Нет даже той объективно изумленной констатации чудовищных фактов разрушения культуры, которые запечатлел последний номер “Аполлона”. Но ведь он все это пережил, видел. У него, действительно, отобрали “все”. Не только фабрики и имущество, но будущую Россию, которую он вместе с лучшими людьми своего поколения “богатых людей, которых учили быть богатыми”, строил. Он все видел, все знал, но, работая над книгой, продолжал в воображении жить незамутненными картинами прошлого. Поразительно. Никакого искушения увидеть в былом черты будущей разрухи, одичания масс, ужасающего упрощения всей жизни вокруг. Пожалуй, только Шмелев в “Лете Господнем” сумел достичь подобной степени отчужденности от неизлечимых травм, нанесенных новой действительностью, смог погрузиться в прошлое так, будто оно и есть единственная реальность, будто не из-под его пера выйдет трагическое “Солнце мертвых”.
Отрешился К.С. и от уже возникавшей в стране несвободы, от диктата коммунистических догм, от страха оказаться по ту сторону баррикад революции. И если он не позволил себе замутить картины минувших дней социальными бесчинствами и кровью дней нынешних, то не позволил он себе и умолчать о том светлом, что было классово чуждым сознанию пролетариев и крестьян. Он писал о своем детстве как о детстве человека, принадлежащего к привилегированному классу, не отрекаясь от среды купцов и промышленников, скорее идеализируя ее. Он осознавал себя представителем замечательного поколения, которое, едва успев выйти на арену российской истории, было пущено под нож революционной гильотины. Америка, технически процветающая, богатая, социально стабильная страна, наверное, обострила в нем чувство катастрофического разрыва, который принесла России большевистская власть. Мир, через который он проехал за время гастролей, изживая послевоенную разруху, продолжал двигаться путем технической эволюции. И лишь его собственная страна сама “бессмысленно и беспощадно” разрушила все, в порыве дикого революционного энтузиазма растоптала веками копившиеся богатства. Материальные, культурные, нравственные…
Его противостояние новым социальным порядкам не выливалась в демонстративные, явные формы. Но сидя в американском своем одиночестве, он упрямо восстанавливал жизнь дореволюционной России, реставрировал ее на страницах книги.
В книге, которая выйдет уже в Советском Союзе, Станиславский вынужден был от чего-то существенного отказаться. У него появилось два слишком мудрых (верней, умудренных) советчика. Во-первых, Немирович-Данченко, которому он, естественно, показал свою рукопись. И Вл.Ив. четко отметил те в ней места, где его собственная роль была недостаточно выявлена. И К.С. послушно внес в книгу тексты, желательные для Немировича. Он даже не стал сам их писать, а просто вставил письменные замечания Вл.Ив. в собственный текст. Второй советчик, Любовь Гуревич, влиятельный театральный критик, издавна близкий Художественному театру, постоянный помощник К.С. в литературной работе. Она взяла на себя роль редактора-друга. Но Гуревич не была защищена статусом великого культурного достояния Советской страны, каким был защищен Художественный театр и вместе с ним Станиславский. Потому отнеслась к рукописи с требуемой временем осторожностью, с большей, чем даже тоже не склонный к риску Немирович-Данченко. Но ни советы Вл.Ив., ни замечания Гуревич не смогли вытравить из книги К.С. ее изначальную ностальгическую интонацию, мало соотносимую с ритмами “левых маршей”.
И все-таки жаль, что сегодня российский читатель не может прочесть еще и первоначальный американский вариант “Моей жизни в искусстве”. Ведь порой даже одно измененное слово меняет оттенки мысли и чувства. Жаль, до сих пор не проделано сравнительного анализа текстов. В советское время, разумеется, осуществить это было нельзя. Но сегодня-то – можно. Однако даже в последнем (втором) издании сочинений К.С. приведены лишь небольшие фрагменты из американского варианта. Причем приведены в приложении, без комментариев, без каких-либо указаний на то, какая часть американского издания книги до сих пор остается “за кад-ром”.
Конечно, всегда можно сказать, что К.С. сам утвердил окончательный вариант “Моей жизни в искусстве”, который и стал с тех пор каноническим. Но одно не мешает другому. К тому же ведь ясно, что изменения вносились не только из потребности уточнить и улучшить первоначальный текст, но и под давлением различных обстоятельств тех лет. Не трудно догадаться, что важный для понимания мировоззрения К.С. пассаж про поколение богатых людей, которых учили быть богатыми (“новых русских” того времени, так разительно по культуре и нравственности отличающихся от нынешних новых), был изъят в советском издании из-за его кричащей несовместимости с революционной реальностью.
В те годы властвовала анкета, и ее вопрос: “что ты делал до 17 года” – для многих стал роковым. Не случайно на нэпманских эстрадах куплетисты бойко пели: “Дайте мне за все червонцы папу от станка, папу от станка, а без папы от станочка участь нелегка, участь нелегка…”.
В письмах Бокшанской есть упоминания о том, что она идет работать к Станиславскому, но нет отчетливого донесения о характере и содержании работы. Вряд ли она не отдавала себе отчета в том, как его партнер станет излагать их совместную историю. Но – никаких цитат, никаких оценок. Ее верность Немировичу-Данченко была сложного свойства. В восторженных эпитетах, в откровенно льстивых словах сказывалось не только искреннее отношение к нему, но – ясное понимание, чего ожидает вполне для нее предсказуемый получатель письма. Ведь стоило эпитетам поубавиться, восторгам стать более приземленными, как из Москвы за океан тотчас же последовал упрек, мол, “чья вы” теперь. “Ваша, ваша”, – отвечала она. Но, пожалуй, она всегда была ничья, своя собственная. Благодаря этому через ее письма, готовый вот-вот материализоваться, таинственной тенью прошел Станиславский. Описывая среду, окружавшую К.С., события, в которых он принимал участие, фиксируя его поступки, передавая его слова, она добивается многого. Возможно, именно непонимание Ольгой Сергеевной внутренней сущности Станиславского (он для нее так и остался “странным человеком”), ее сдержанность, сделали портрет К.С. таким ускользающе прозрачным, не скрытым жирными мазками трактовки.
Римма КРЕЧЕТОВА
«Экран и сцена» № 19 за 2013 год.
