
Был человек – и не стало. Только что виделись, говорили, и все – ночью 18 ноября во Флориде остановилось сердце Романа Каплана. Это огромная утрата не только для родных – брата и любимой жены Ларисы, но и для неисчислимого круга чужих людей. Пестрый разрозненный русский Нью-Йорк металлическими опилками стягивался к магниту, положенному Романом в центре Манхеттена – в легендарный ресторан “Русский самовар”. Недавно отметили в “Самоваре” 80-летие Романа, а нынче на белом рояле, подаренном некогда Михаилом Барышниковым, стоит фотография Романа, а перед ней – рюмка водки, накрытая ломтиком черного хлеба. Многие пришли в ресторан помянуть его основателя, но еще больше людей по всему земному шару пишут и говорят о Романе, перебрасываются строчками, и каждый вспоминает свое. Люди невероятно разные, и общего у них – только новопреставленный – Роман Каплан. И я ищу определение, чтобы назвать это явление природы, которым был Роман, и не могу. А нужно найти непременно правильные слова. Он услышит. К его 80-летию я примеряла к нему известную мифологему, и она пришлась ему по душе. Но сегодня миф “Касабланки” слаб.
Таких, как Роман, нет, не было и уже не будет. Потому что таких вообще не бывает.
Он появился на свет в самую долгую ночь самого черного года – перед Рождеством в 1937-м в Ленинграде в семье музыкантов – у выпускницы Гнесинки и дирижера военного ансамбля. Он чудом выжил в блокаду. Холод, что должен был убить мальца, убил только несколько пальцев. Кто успел подхватить его, отогреть, донести до больницы, где ампутировали отмороженное, – не узнать. Но он выжил в том госпитале, в той блокаде – сестрички подкармливали – во время страшной войны. И в сорок пятом – в семь с половиной лет – начал учиться. Уровень его образованности всегда ошеломлял. Роман окончил в СССР Герценовский институт, учился в Эрмитаже в аспирантуре у М.А.Гуковского – занимался треченто и кватроченто – доренессансным искусством. Учил языки, преподавал и переводил с английского, немецкого и французского.
Ему хватило языка, чтоб первокурсником на Аничковом мосту подойти к туристам, одетым не по-питерски ярко. И спросить, откуда они. Милый худенький человек ответил, что из Америки, из самого Нью-Йорка – актеры – участники спектакля “Порги и Бесс”. Собеседник назвался Трумэном Капоте. Дальше – во время учебы в аспирантуре – Роману выпало провести в Эрмитаже экскурсию для Леонарда Бернстайна. Они переписывались потом несколько лет, а тяжелую долларовую монету, что Бернстайн подарил, Роман носил на цепочке на шее. Немудрено, что такого советского юношу ждали неприятности. О нем писали в газетах гадости, а когда брата выгнали из института, он решил уехать из Питера. Сначала – в Москву, а когда стало можно – в Израиль вместе с семьей. В Израиле Роман преподавал в университете, а потом написал повесть “Наша армянская кровь”. Виктор Перельман, издатель журнала “Время и мы”, опубликовал ее и пригласил автора в Америку. Роман приехал и остался – нашел работу в Манхэттене – в доме на Парк-авеню швейцаром, ночным портье. Благо, там жили пожилые люди, которые редко возвращались домой за полночь, и Роман мог читать до утра. Поутру шел отсыпаться в отель “Уинслоу”. А вокруг сиял праздничный Нью-Йорк, где однажды на улице он встретил Беллу Ахмадулину, Бориса Мессерера, а с ними – американского профессора Тодда. Они шли в Колумбийский читать стихи. И Роман пошел с ними. В ту пору некто Нахамкин открыл галерею русских художников. И обещал взять Романа на работу, но не спешил. Увидев его в компании с Ахмадулиной и Мессерером, Нахамкин на следующий же день позвонил Роману.

Потом случилось самое главное – Роман встретил Ларису.
Девочка, пережившая, как и Роман, блокаду, прожила с ним более сорока лет. И сорок лет спустя Роман говорил о жене всегда с той же нежностью и любовью. А тогда – Лариса уставала от гостей: когда галерея закрывалась, все шли к ним домой. Она приходила с работы и попадала в салон. И однажды сказала: “Если тебе хочется их поить и кормить – открой ресторан”. И Роман открыл. Сначала маленький – вместе с Нахамкиным. Потом свой “Русский самовар”. С одной стороны ресторана был бродвейский театр, с другой – открытая стоянка автомобилей, и “Самовар” был виден издалека. А через год шоу сняли со сцены, а вместо стоянки построили дом, закрывший ресторан, и наступили тяжелые времена. Тогда Роман позвонил Иосифу Бродскому. Поэт в то время получил Нобелевскую премию. Они не были близкими друзьями, но были знакомы по Питеру, и поэт любил приходить в “Самовар”. “Помоги, если можешь”, – попросил Роман. Бродский позвонил Барышникову, который был его близким другом. Так Роман получил помощь, как он говорит, с двух рук: и от русской литературы, и от русского балета. Ресторан ожил, окреп, но случилась новая беда – загорелась электропроводка, и “Самовар” сгорел. Снова потянулись долгие месяцы хлопот со страховкой, ремонтом. Спасали снова друзья: хоккеист Вячеслав Фетисов пришел и предложил деньги на восстановление. После пожара настало время воды – этажом выше кореец открыл сауну. Она протекала на “Самовар”. Вода струилась по стенам, картинам.
“Я решил в один прекрасный день поговорить с ним, – рассказывал Роман. – Мирно. Был в благодушном настроении, и решил поговорить мягко, по-человечески. Поднялся к нему, позвонил, он открыл. Я посмотрел на него и сказал: “Ну что, сука, застрелить тебя?”.
Спасибо – кореец все понял.

Я говорила Роману, что на самом деле никакого “Самовара” нет без него. “Самовар” – это майя, иллюзия. Есть только он сам – он, создавший ауру этого места своим ровным дыханием. Потому что знал, что полицейские и воры одинаково хотят есть. И он – со своим самоваром – выбрал стоять над схваткой. И была бы тут скрытая камера, можно было бы в кадрах хроники увидеть многих, не только звезд балета и литературы, но еще молодого Лаврова, который пел под гитару в “Самоваре”, Машу Захарову в уголке под портретом Иосифа. И за соседним столом – многих из тех, кто сидит на нарах в Америке – воров России, которые не грабили одиноких старушек-процентщиц и не искали ответа на вопрос Федора Михайловича – тварь ли я дрожащая или право имею, – а грабили богатое государство и его госпрограммы. Было бы русское кино на века, и начиналось бы, как “Касабланка”. Потому что “Самовар” в квартале бродвейских театров на самом деле был “белой землей” – ничейной, нейтральной полосой. На которой сходились все – как в Касабланке. Мало кто помнит нынче, о чем на самом деле была “Касабланка” – голливудская драма сорок второго года. А в кадре – Вторая мировая война, Марокко, забытый богом городок, перевалочный пункт, смешение языков и наречий, погон, валют, неопределенных правил игры и личных пристрастий. В памяти остался только главный герой и его любовь. Рик Блейн – ироничный американец, владелец ресторана “У Рика”. Ночного клуба, где нальют любому.
Невозмутимый, далекий от политических игр Рик, который на самом деле в тридцатые воевал в Испании на стороне республиканцев. И вообще был человеком принципов, но каких – не ваше собачье дело. Рик, не желающий рисковать, символизировал равнодушие среднего американца к беде остального мира, пока не грянул Перл Харбор. И показал, что придется меняться, когда тебе объявят войну. К Рику прибегал уголовник Угарте, убивший двух немцев и так добывший документы, с ними можно было свободно уехать хоть куда. Для беженцев Касабланки бумаги оказывались важнее хлеба. Уголовник отдавал документы Рику со словами: “Ты меня презираешь, – ты единственный, кому я могу довериться”. Рик прятал паспорта в фортепиано верного пианиста Сэма. Только Рику доверяли все, только к нему мог прислониться каждый. Потому что Рик мог найти решение и не боялся пойти на любой компромисс. Он не жаждет крови и не верит в войну. Мужчина с разбитым сердцем – умеющий слышать и сострадать.
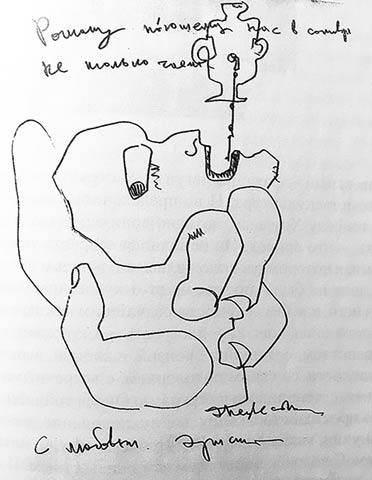
Так же доверяли Роману. Роман Каплан – большая потеря дипкорпуса России.
Был вам дипломат, господа, а вы его проморгали. Рик, символ равнодушия к чужой далекой войне, стал символом мира для всех воюющих сторон.
Спасибо тебе, дорогой, за нас за всех по двум сторонам баррикад.
Лена Гессен написала мне: “Роман был моим школьным учителем английского языка всего несколько месяцев. Научиться я ничему не успела: глядела ошеломленная на невиданного человека: джинсы в сапоги, черная водолазка, сидит на столе и рассказывает, как накануне водил по Москве Дина Рида. 1966 год. Не знаю, влюблялись ли девочки нашей школы в кого-нибудь еще… Vogue урок”.
А я видела один его урок английского. Он живет во мне драгоценным воспоминанием. Многие приходили к Роману в поисках помощи. Он делал все, что мог. Когда совсем было трудно помочь, – оставлял человека у себя в ресторане – придумывая работу на подхвате, чтоб человек и на виду был, и в тепле, и накормлен. За стойкой бара не раз появлялись новые лица. Однажды появилась робкая девушка без английского. Она с ужасом смотрела на большой телефон, что стоял на стойке бара. Телефон звонил, а она боялась снять трубку. Мы сидели рядом со стойкой бара за столиком хозяина.
– Снимай-снимай, – приободрил ее Роман. – Сюда звонят русские.
Она сняла, послушала, глаза округлились, и она испуганно сказала: Там по-английски!
– Ничего страшного, – мягко ответил Роман. – Спроси: “Ху ю”? И послушай, что ответят.
Девушка в ужасе повторила в трубку: “Ху-ю?” – и тут же радостно выпалила: “Джон!”
Роман кивнул, поднялся и пошел к телефону.
Менеджер ресторана “Самовар” Влада фон Шац, дочь Ларисы Адамовны Каплан, сказала другу Романа Владимиру Козловскому, что “Самовар” будет жить. Влада фон Шац обещает сохранить традицию поэтических вечеров, многие годы проходивших на втором этаже ресторана в “сигарной” комнате, которую проектировал Феликс-Лев Збарский, сын специалиста, что бальзамировал Ленина. В сигарной стоит коллекция самоваров – ее собирал Роман. Она богата – более полусотни, Влада фон Шац планирует продать часть коллекции.
И останется в памяти навсегда, как под этими самоварами, что стояли на полке, Роман вдохновенно читал стихи, собирая в ресторане поэтов в день рождения Иосифа Бродского. Я сижу в уголке и любуюсь тем, как по-домашнему он созвал за стол гостей, как возлюбленная жена Лариса разливает по рюмкам клюквенную водку собственного приготовления, как привычно пахнет домашними пирогами, и как всем уютно в гостях. Роман созывал гостей по ему одному ведомому списку. Он хорошо знал, кого Иосиф позвал бы сам. Знал и тех, кто вырос без Иосифа, – новое поколение поэтов, для которых Бродский икона. Если молодые готовы читать стихи, – им всегда найдется место за общим столом у Романа. С пиететом, без лести и подобострастия, немного удивляясь цифрам, Роман говорил, что минуло тридцать лет, как “Самовар” стал приютом для его друзей, которые снискали мировую славу. Он не добавляет имен Бродского и Барышникова, но всем ясно, о ком идет речь. И сам Барышников вжимается в стену в дальнем углу большой комнаты на втором этаже, где гости тесно сидят рядком. Он не хочет внимания к себе сегодня. По традиции, заведенной Романом, гости читают стихи. Поэты и не поэты, читают Бродского. И первым читает сам Роман. Громко и радостно – словно Иосифу будет слышно, – свое любимое. Потом Генис. Спасибо ему – он поднял в тот вечер тост за “Самовар”, за Романа, без которого ничего бы этого не было, ни уютного угла, куда забирался Иосиф, когда приходил сюда, ни посиделок. Вспоминают Сьюзан Зонтаг за столом Иосифа, а я думаю про Филипа Рота, сидевшего за тем же столом не так давно. Ян Пробштейн что-то читает после Гениса. Поэты читают по два стихотворения – одно Иосифа, одно свое – с посвящением Бродскому. Я любуюсь просветленными лицами, слушаю голоса. Любимая Ирена Грудзинская-Гросс – историк, писатель, профессор Принстона, говорит, что только что прилетела из Польши, и прямиком к Роману. Они дружили с Иосифом, она переводила его, издавала его книжки в издательстве Университета. Не знаю, что потом читали писатель Соломон Волков, художник Григорий Брускин и его Алеся. Что вспоминала поэт Марина Тёмкина, когда эстафета чтения чашей пошла по кругу. Геннадий Кацов, Андрей Грицман – все читают стихи, а я убегаю, так как пришла просто обнять Романа.
Лариса удивленно спрашивает: А пельмени?
Любимое блюдо Иосифа подадут, когда закончат читать. Увы – отказываюсь. Я помню, сколько было выпито в “Самоваре”, а нынче… Мы шепотом обсуждаем хвори, диеты.
– Ты что-нибудь прочитаешь? – спрашивает Роман, уверенный в моем согласии.
– Нет, – виновато говорю я и сбегаю. Бреду по Манхэттену в сумерках к метро и читаю про себя то, что тридцать лет назад уже читала в “Самоваре”, когда все были живы. И ничье собачье дело, что именно. Иосифу и так слышно, а Барышников читает это сегодня лучше меня.

Я думаю о Романе. О том, что без него никаких бы пельменей Бродский не полюбил. Хотя Юз Алешковский настаивал, что его пельмени лучше, чем у Романа, и Иосиф их больше любил, но нынче в “Самоваре” их готовят по рецепту Юза. Так что конфликт снят. И, перебирая лица и имена “Самовара”, я неожиданно понимаю, как называется священнодейство, порожденное Капланом.
Так сектанты сходятся в свой тайный молельный дом, как сходились мы – те, кто на улице и здороваться бы не стал. Дом стилизован был под ресторан, и молитва – под трапезу. Но не было идола, которому поклонялись. Я вспомнила лицо человека, все знавшего про нас. Он приходил сюда выпить и поесть, создатель Боконизма – известный писатель Курт Воннегут. Он описал в деталях в своей книге “Колыбель для кошки”, что это за верование. У него был основатель – Боконон, которого никто не видел. Он утверждал, что все его учения – ложь. И все, что требуется от последователей, это верить, что население планеты разбито на группы, и они исполняют божью волю, сами того не ведая. И каждая группа представляет собой карасс. И у каждого карасса есть своя ось – вампитер. Нет карасса без вампитера, учил Боконон. Вампитером могло быть дерево, камень, идея, мелодия. И, наверняка, человек. Члены карасса вращаются вокруг своего вампитера “в величественном хаосе спирального облака”. И нет для карасса преград – ни семейных, ни классовых, ни рассовых, ни профессиональных, а если есть… – вот тут – внимание: тогда это ложный карасс, как учил Боконон, и назвал его Воннегут гранфаллоном.
Нет и не было у меня ничего общего ни с хоккеистом Фетисовым, ни с дипломатом Сергеем Лавровым, ни с талантливым уркой Вячеславом Иваньковым, ни со многими другими, с кем случалось пересекаться в “Самоваре”. Но так распорядилась судьба и Роман Каплан, что мы сошлись на одном маленьком острове в Атлантическом океане, в Манхэттене, сидели под одной крышей, слушали одну музыку, ели борщ из одной кастрюли. И глядя на благостную улыбку на старом фото автора этой религии Воннегута, я вижу, что он тогда понимал то, что я понимаю сейчас, – Роман был вампитером. Вампитером российского гранфаллона.
Никто нас больше не соберет. Останемся рассыпанной коробкой лего, из которого уже ничего не сложишь. Да и осталось нас мало – тех, кто помнит начало “Самовара” и запах той домашней еды, которая была у нас похожей в разных уголках СССР. И была в радость нам, детям, в чьей памяти генов живут голод и холод войны и послевоенных лет. Нам очень хотелось мира, тепла, уюта и чаю с вишневым вареньем. Все это мы обретали под крышей у Романа.
Спасибо тебе, дорогой за всех согретых и накормленных. Спасибо за крышу.
P.S. В трогательной книге «Роман с “Самоваром”» есть точные слова Анатолия Наймана:
“Если земной шар – global village, всемирная деревня, то “Самовар” – типичный деревенский клуб. Один из немногих. Русские за границей не любят русских. Дома тоже не очень, но за границей просто отворачиваются. Трудно представить себе место, которое притягивало бы их именно ради того, чтобы увидеть соотечественников. “Самовар” – единственное исключение! Причем для обеих частей нации: эмигрировавшей – и приезжающей на время из метрополии”.
“Русские не любят русских за границей не только потому, что по русской своей природе каждый каждому антагонист, и если на родине все-таки приходится быть заодно, поскольку, во-первых, общежитие и, во-вторых, удобнее выживать, то тут – отвали, хочу пожить без тебя, козла. А еще и потому, что не порти ты мне чужбину, куда я приехал отвязаться от того, к чему меня жизнь привязала, и прежде всего оторваться от родины. …Некоторым образом это напоминает нам, что Божий замысел – экстерриториальность. Быть везде и нигде, жить на земле, которая ничья и каждого, – в ожидании единственно реальной: потусторонней…”.
Александра СВИРИДОВА
«Экран и сцена»
№ 23 за 2021 год.
