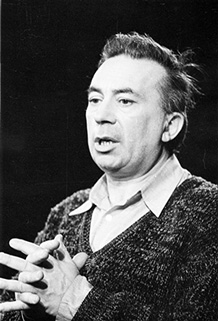Из дневников
Конец 1970-х гг.
<…> Я всегда знал, что театр – это хороший режиссер и небольшая группа отличных актеров, его учеников. Вот эта небольшая, стройная, компактная группа и есть театр. В любом, даже огромном, художественном учреждении, где один пласт актеров сменяется другим, и образуется рельеф, подобный рельефу земли, даже в таком огромном учреждении – есть небольшая группа и ее лидер, которая и есть театр. Но иногда все так спутывается, смешивается, засоряется, что наступает подобие хаоса. Из этого хаоса тоже могут иногда возникать интересные спектакли, но это, к сожалению, бывает редко. Потому что театр по своей природе никак не хаотичен.
Спектакль, как любое художественное произведение, должен быть пронизан гармонией. А чтобы добиться торжества гармонии, необходим душевный порядок. Не спокойствие, не душевная вялость (это совсем другое), а душевный порядок. Такой порядок, когда люди полностью понимают друг друга, согласны друг с другом и доверяют друг другу.
Кроме того, сквозь спектакль должны светить люди, должны ощущаться их страдания, их радость, их идеи. Когда спектакль создан в хаосе – в нем при всей открытости остается запутанность, загруженность, и обязательно что-то вылезает лишнее. В нем нет настоящей гармонии, а значит, нет и красоты. И все из-за того, что многие часто просто забывают, что такое театр.
Спорят, ссорятся, интригуют, а на самом деле следовало бы просто расходиться. Но это трудно, рисковать и уходить никто не хочет. Куда? Зачем? Пускай уходят другие. Так думает каждый, заботясь в первую очередь, конечно, не об искусстве, а о самом себе. Это, может быть, и естественно для каждого, но для искусства губительно.
Теперь, мне кажется, даже стали проповедовать мысль, что в театре не долж-но быть единства. В результате – десяток несходных кружочков, несходных мнений. Но ни один из кружочков даже не может претендовать на то, чтобы именоваться театром, как осколочек не может претендовать на то, чтобы его считали вазой.
И еще одна странная мысль появилась. Когда нет настоящего притока новых режиссерских сил, тогда возникает так называемый актерский режиссер. Он создает безрежиссерский спектакль, и работники театра даже радуются: вот, наконец, спектакль без надоевшего “диктатора”. Но это так называемая внутренняя радость. И только. Не исключено, конечно, что некий актер, освободившийся от “гнета”, вдруг выявит свои грандиозные возможности. И все же, современное состояние театра требует особой необыкновенной цельности произведения.
Пьесу пишет один человек, а разыгрывают ее 10-15 актеров, оформляет художник и композитор пишет музыку. Чтобы все не расползалось, не разъезжалось от этого многообразия, должна быть удивительная сработанность. Мало крепкой руки или азарта – может получиться что-то грубо организованное, выражающее только то, что человек сделал эту работу азартно и что он обладает волей. Воля бывает очень часто такой глупой, будто безвольной. А на самом деле часто тишина определяет все. Глубокая, сосредоточенная тишина.
Тут нужна особая художественная профессия. Эта профессия заключается еще не только в том, чтобы достичь цельности, а в том, чтобы заставить пьесу на сцене задышать. Чтобы задышали не один, не два, не три каких-либо отрезка, а задышала сердцевина пьесы, чтобы открылась, обнажилась ее душа. Тут нужен режиссер.
Я недавно смотрел один учебный спектакль, поставленный молодым режиссером. И с интересом всматривался в то, как там разобраны сцены. Не было разобрано ни минуты! Если профессионально следить за этим, то легко увидеть, где кончается настоящий разбор и начинается самодеятельность. Когда-то во МХАТе Станиславский репетировал годами и не выпускал спектакль, где что-то не было бы достаточно проанализировано.
Годами репетировать, конечно, не обязательно, но ведь многие просто даже и не занимаются настоящим анализом, а потом в готовом спектакле одно не сходится с другим, но при этом как-то заштопывается, чтобы дыры были не заметны.
Однако, чтобы иметь возможность спокойнейшим образом анализировать, необходима особая атмосфера, лабораторная атмосфера. А много ли у нас театров, похожих на лаборатории? Все куда-то спешат, снуют, текста не знают, до смысла фразы не добираются. Хотя работа, кажется, кипит. Но именно этот общий хаос и мешает сосредоточиться.
Я знаю режиссеров, которые даже тяготятся, если вдруг у них оказывается большой промежуток времени для работы. Они не знают, что делать в этот большой промежуток. Они тянут, отвлекаются, чтобы по-настоящему начать только тогда, когда останется месяц. Здесь вступает в силу их напористость. И вот уже спектакль готов. Только что это за спектакль с точки зрения его душевного заряда? Там скорее заряд физический, чем душевный.
Между тем, каждый спектакль – это целый мир. Он должен быть целым миром!
И еще, ведь каждый спектакль необходимо заново сочинить.
Режиссер часто, сочинив в своей жизни единственный спектакль, потом по его образу и подобию производит и остальные. Но каждый новый спектакль – это абсолютно новая фантазия, совершенно новое построение. Мало таких режиссеров, что способны каждый раз перестраиваться, мало таких актеров. Актеры часто тянут из спектакля в спектакль одно и то же, одно и то же.
Как-то на одном обсуждении я получил записку по поводу одного из актеров. Там была просьба передать ему, что зрителей интересует в артисте человек, а не масочка. Любая, даже хорошая масочка – надоедает.
Прежде я отстаивал такую точку зрения, что актер должен выразить себя, и все тут. И когда зрители мне говорили о необходимости каждый раз создавать новый образ, я скептически к этому относился, так как часто видел чисто внешнее перевоплощение и потому предпочитал “чистого” актера как человека в той или иной роли. Но теперь, спустя много лет, я тоскую об актерах, способных перевоплощаться внутренне. То есть находить внутренние изменения в себе в зависимости от новой роли.
На сцене часто существует свой замкнутый мир, который, кажется, никак не сопоставляют с жизнью. Там есть какой-то актер, который сегодня играет, допустим, инженера, а завтра врача. Но все получается одинаково, и никому нет до этого никакого дела. Не угадывается ни социальная правда, ни бытовая. Только знакомые театральные приемы. Правда, бывают спектакли, когда поэтическая сторона дела важнее бытовой, но создавать такие спектакли не менее трудно. 15 человек должны стать как бы одним поэтом. Точно так же как 15 музыкантов оркестра становятся одним музыкантом.
Я всегда завидую музыкантам. В их профессии такое единство!
Это единство предполагается. Даже там, где оркестр играет не так уж и хорошо, все равно существует единство, а то мелодия бы расплывалась, ритмы бы нарушились. Но в драме все возможно, ибо там нет таких точных знаков, как в музыке, и такое единство вроде бы и не предполагается…
Необходимо, чтобы в театре к единству стремились. Вот почему крупнейшие режиссеры не только репетировали, но и вели еще широкую воспитательную работу, приучая актеров к определенному пониманию театрального искусства. Для того чтобы воспитывать – должны быть в театре ученик и учитель. Ученик – это актер, учитель – это режиссер. Конечно, не всякий режиссер может стать учителем. Но дело еще бывает и в том, что актеры не всегда хотят оставаться учениками. Им кажется, что они уже выросли из ученического возраста. И как раз в этот момент все кончается.
Я замечаю, что многие актеры замечания воспринимают как обиду. У них появляется какая-то защитная реакция. Как на улице – тебя еще не толкнули, а ты уже готов огрызнуться. Смешно, но в театрах нередко именно так обстоит дело. В этом смысле для меня удивительна была работа во МХАТе, потому что там Прудкин, которому 86 лет, смотрел на режиссера, как мальчик. Мне так хорошо было видеть каждый раз его добрые открытые глаза!
Как странно, когда актер не смотрит в глаза. Ему кажется, что излишняя его доверчивость и открытость будут истолкованы как его слабость. А слабость, наоборот, в закрытости. Как актера, так и режиссера. Хорошо бы кто-нибудь из театральных работников когда-нибудь написал книжку наподобие той, какую написал о своей работе Макаренко. Или вот так же подробно, как Станиславский написал “Работу актера над собой”, кто-нибудь описал подробно процесс репетиции как человеческие отношения.

Если бы можно было по книге учиться способности взаимопонимания! Это такая тонкая вещь. Репетиционная работа строится на невероятном, сказочном душевном единстве. Малейшее его нарушение грозит нарушить художественность. Но часто бывает так трудно объяснить актеру или актрисе разницу между одним искусством и другим, между хорошим вкусом и плохим. Для этого недостаточно репетиции. Для этого нужны беседы, много бесед. Но в театральном хаосе такие беседы невозможны.
Люди слишком часто живут вопросами творческого неравноправия и просто не способны услышать что-то иное. Между тем, какое может быть творческое равноправие? Это только обман, при помощи которого некоторые театральные руководители сохраняют свое место.
Лицо любого театра всегда несколько актеров, а остальные – их хорошие помощники.
Только эти несколько актеров не долж-ны зарываться, а остальные не должны считать свою вспомогательную работу унизительной. Теперь же унизительным иногда считается даже то, что актеру дается вторая роль вместо первой.
Когда Москвин играл Епиходова, он и не подозревал, что кто-то когда-то сможет сказать, что эта работа менее важна, чем работа над ролью, допустим, Раневской. Нет, как ни вертите, а сегодняшний театр несколько потерял ту строгость в отношении к делу, какую когда-то проповедовал Станиславский. Может быть, потому, что появилось слишком много возможностей, что артисты становятся известными не по театру, а по кино и телевидению. Но иногда так хочется кому-то объяснить, что его популярность абсолютно пустая. Что “быть знаменитым некрасиво”… и т.д.
Да попробуй, объясни! Посмотришь на некоторых актеров и режиссеров, а у них в течение 5-6 лет и нет ничего… Живут чем-то прошлым, но при этом такие важные. Бегают, дают интервью, становятся сановными или суетливыми. И эту сановность уже сбить трудно. Человек привыкает к чему-то, и ему уже кажется, что все так и есть, как ему представляется.
Но публика, я уверен, всегда отделяет настоящее от поддельного. Я сужу хотя бы по непосредственным встречам с пуб-ликой. Какие присылают записки! Насколько в этих записках люди кажутся сведущими в искусстве, и как хочется им чем-то настоящим ответить. Настоящей ролью, настоящим спектаклем, настоящим театром.
А настоящий театр – это нечто, противоположное хаосу.
***
<…> Смотрю подряд несколько спектаклей в разных театрах. (Давно не был в других театрах.) И охватывает какой-то ужас, так это плохо. (Возможно, с таким же чувством кто-то уходит и с моих спектаклей.) Мне было иногда трудно досидеть даже до конца первого акта. Быть прикованным к креслу в окружении чужих людей и, скучая, смотреть в одну и ту же точку на сцену – невыносимо. И так пошевелишься и этак, и так поставишь ногу и этак, но ведь акты теперь делают большими, по полтора часа. Полтора часа просидеть в темноте, почти не двигаясь и не испытывая интереса к происходящему перед тобой, – мучительно.
Почти в каждом из виденных спектак-лей начало меня увлекало. И я думал: нет, все-таки театр – это замечательное заведение. Столько народу внимательно смотрят на освещенную площадку в предвкушении удовольствия! И оно как бы даже уже приходит от одного того, что развертывается какой-то сюжет, люди говорят публично о чем-то интимном и т.д., и т.п. Но вот обязательно наступал момент, когда ты чувствовал, что внимание вдруг ослабевало, плечи опускались, и ты весь как-то грузнел. И вокруг почти со всеми происходило то же самое.
Но зрители – не профессионалы, и они сразу не отдают себе отчет, из-за чего это произошло. Просто стало скучнее. А я-то профессионал и с такой ясностью вижу ошибки (которые в своих спектак-лях вижу гораздо хуже).
О, эти ужасающие ошибки в художественных расчетах! Когда начинается вроде бы так, как надо, а потом вдруг срывается в пропасть.
Начало одного спектакля заключалось, например, в том, что некий знаменитый режиссер разочаровался в театральном искусстве. Его играл известный актер, который очень постарел за то время, пока я не был в этом театре. И я больше разглядывал то, каким он теперь стал, чем следил за содержанием пьесы. Впрочем, я отмечал при этом, что играет он, в общем, не плохо, и даже погружался вместе с ним в некую таинственность той театральной жизни, в центре которой был он. Таинственность заключалась в следующем: перед ним должно было вот-вот предстать далекое прошлое театра, и он из соприкосновения с этим далеким прошлым должен был извлечь полезный урок.
 Пока действие происходило в настоящем и только лишь сгущались сумерки, предвещавшие нечто таинственное – смотреть спектакль было, пожалуй, даже интересно. Все ждали приход этого прошлого. Но когда оно явилось, то интерес тотчас прошел, ибо оно, это прошлое, оказалось грубым и земным. Аляповатым. Героиня не подходила провинциальным исполнением к своей роли. Ее партнеры тоже не вызывали никакого интереса. А знаменитый режиссер, смот-ревший на них из настоящего, зачем-то изо всех сил разыгрывал ко всему этому интерес. И не понятно было, чем он там собственно заинтересован.
Пока действие происходило в настоящем и только лишь сгущались сумерки, предвещавшие нечто таинственное – смотреть спектакль было, пожалуй, даже интересно. Все ждали приход этого прошлого. Но когда оно явилось, то интерес тотчас прошел, ибо оно, это прошлое, оказалось грубым и земным. Аляповатым. Героиня не подходила провинциальным исполнением к своей роли. Ее партнеры тоже не вызывали никакого интереса. А знаменитый режиссер, смот-ревший на них из настоящего, зачем-то изо всех сил разыгрывал ко всему этому интерес. И не понятно было, чем он там собственно заинтересован.
Одним словом, именно здесь коренилась первая ошибка, не так все это прош-лое надо было сценически показать. Была утеряна загадка, тайна. Все становилось от этого нелепым, и дальше спектакль смотреть уже не хотелось.
Когда совершена была эта ошибка? – думал я. В самом воображении режиссера о будущем спектакле? В самих его начальных расчетах, или правильный расчет был испорчен во время репетиций? Часто даже и верный расчет затуманивается в репетиционной путанице, болтовне. Затуманивается в невозможности от актера добиться того, чего добиться необходимо. Даже если ты силен, актер часто так закрывает дело своей неспособностью понять целое, своим глупым субъективизмом, своим упрямством, глухотой или, наконец, просто своей неторопливостью. Но это в том случае, когда ты сам силен, а много ли нас, которые могут похвастаться своей внутренней силой, то есть убежденностью, ясностью мысли, последовательностью в осуществлении этой мысли?
Так или иначе, сидишь на спектакле в надежде, что будет что-то хорошее, дельное, и вот наступает момент ошибки, и все рушится, как карточный домик. Спектакль до удивления сложное сооружение. В уме все время считаешь и пересчитываешь, чтобы не ошибиться, но, ей богу, легче не ошибиться в самых сложных числах, чем в образном строе художественного произведения, чем в оттенках психологии, чем, наконец, в простой логике, которая будто бы проста, но попробуйте найти единственно верный переход от одного смыслового пункта к другому.
Мне всегда кажется так: пускай бы актер ошибался в любой частности, но вел бы правильную общую линию. Точно ощущал свое место в целом. Верно бы чувствовал основу. Сколько же ошибок из-за этого неверного ощущения основы.
В другом спектакле рассматривался роман милой девушки с немолодым человеком, ушедшим из своей семьи. Какое, вероятно, нужно иметь чутье, чтобы не скатиться в банальность, в пошлость, ибо в данном случае тут цель показать не пошлость, а прелесть возникшего чувства. Не думаю, чтобы режиссер и актеры не понимали этого. Но точный художественный расчет, но тончайшее чутье к подобному точному расчету есть нечто большее, чем простое понимание. То, что мост не должен обвалиться, – знает каждый, но сделать так, чтобы он не обвалился, может лишь знающий инженер.
Точно так же и в искусстве, только еще, может быть, в большей степени, существует разница между общим пониманием того, что необходимо, и удивительным чутьем к той единственной конкретности, которая приведет к тому, что необходимо. Тем чутьем, которое позволит избежать ошибки.
На этот раз я опять-таки присутствовал в театре, где такая ошибка была.
Досадно было смотреть, как проваливались сцены, задуманные, возможно, не так, как это, в конце концов, получилось. Ведь вряд ли кто-то хочет задумать плохо, но в его воображении коренится какая-то неточность. Какой-то недочет, а в этом-то все и дело! Или же, как я уже говорил, что-то точно рассчитанное затерялось затем в самом репетиционном процессе, болтливом, бестолковом. Ведь работают вместе несколько в общем-то разных людей. Один говорит, другой слышит и не слышит. Легкое отклонение, и верная линия незаметно ушла в сторону. И вот твердишь себе, что надо воспитать в себе удивительное чутье к точному расчету, чтобы не допускать ошибки.
Какою внимательностью, каким открытым сердцем надо обладать, чтобы хорошо понимать и хорошо слышать! Какая, наконец, нужна ясная голова, чтобы думать и чувствовать в соответствии с конкретной истиной!
Из семейного архива
Публикацию подготовили Мария ЧЕРНОВА и Инна КРЫМОВА