 Продолжаем публикацию фрагмента, посвященного постановке «Петербурга» Андрея Белого, из готовящейся книги И.Н.Соловьевой «МХАТ Второй. Люди и судьба», осуществляемой по гранту РГНФ. Начало см. в № 1, 2015.
Продолжаем публикацию фрагмента, посвященного постановке «Петербурга» Андрея Белого, из готовящейся книги И.Н.Соловьевой «МХАТ Второй. Люди и судьба», осуществляемой по гранту РГНФ. Начало см. в № 1, 2015.
Андрей Белый опять и опять выписывает из своей поэмы. Хулит ее: она ничто перед «Гамлетом» Чехова. Но там и там – «соединение двух идей – идеи революции с идеей “пятого Евангелия”».
Белый чтит спектакль как «сошествие “Манаса”, “Разума” над мятежами нашего времени». Благодарен за это сошествие «в минуту трудную» – «неисповедимы пути внутренней помощи!» (Вероятно, имеются в виду известия о тяжкой болезни Рудольфа Штейнера (скончался 30 марта 1925 года). Вероятно также, что именно Штейнера Белый разумеет, когда Михаил Чехов ему «видится “усыновленным Отцом”».)
Белый убежден, что помощь нужна всем – на всех социальных этажах. Потому «взята» Москва. Потому в пятый раз смотрит «Гамлета» он, Андрей Белый. Потому так же не в первый раз смотрит «Гамлета» кондукторша (про кондукторшу в письме со слов Ольги Форш, та в зрительном зале оказалась рядом с женщинами из трамвайного парка). Потому «взят» «такой мало способный на увлечение человек, как Лежнев, не интеллигент в привычном смысле, не большевик, не мистик, не трамвайный кондуктор».
Тому, как вышеупомянутый И.Г.Лежнев «оформляет» Гамлета, в письме отданы страницы за страницами. Уникальный конспект.
В статье Лежнева перелистана русская литература, перебраны ее «принцы крови и духа». По Лежневу, все они, от Чацкого с Онегиным до Аблеухова-сына, включая Раскольникова – «устроители дворцовых переворотов, мятущиеся в квадратах отцовского дома».
Белый выписывает из статьи Лежнева: «Мы, современники, были рупором отчаянья прошлых поколений, но и рупором их мужества… их революционной воли. Мы – завершители… Мы дали повторительный курс прошлого… Само отчаяние – действенная эмоция, обратная сторона мужества. Кто теряет перспективу восходящей линии – тот лишен чутья истории.
В самоощущении ярчайшая точка – болевая. Ее проектировали… и выступил принц Гамлет.
Но то не был объективный образ. …Прав-да истории затуманилась правдой большого стона».
В выписках Белый подчеркивает ему важнейшее.
«Нового Гамлета дает актер Художественного театра М.А.Чехов. В этом его огромная художественная заслуга и интеллектуальная высота. Что же это за Гамлет? Это все тот же принц в остенении отцовского дворца. И тут китайская стена между ним и народом, и тут шпионящая челядь, и тут зеркальные отображения. Но в тройной раме королевского золота, предательского маскарада челяди и траурного крепа – во весь рост встает человек, саженный, волевой Гамлет, как быть ему должно. Се человек! – завершительный синтез столетнего пути. Мы его узнаем – это наш родной путь. Это родной «геройнашеговремени», …воплотившийся в Чехове. …Линия действенного протеста идет, все возрастая от акта к акту до финального момента – казни короля. И видишь: вот, наконец, принц распрямившийся и ставший во весь свой человеческий рост. Гамлет – наша трагедия. Наш гамлетизм не карликовый, не мозгляческий. Он высокий и трагичный. Его мы узнали».
Строка про Гамлета в сажень ростом может смутить – Михаила Александровича ростом Бог не наделил. – Смущаться не надо.
Мы приводили рассказ, как юная зрительница не сумела совместить Чехова, подошедшего к ней на улице, с Чеховым-Гамлетом. Сгорела со стыда, и бегом от него. – Мистика или не мистика, но Гамлет на сцене представал, каким он однажды благоволил позвать Чехова на сближение. Таким его и видели – что девочка-студентка, то и Лежнев.
Конспект чужой статьи включен в письмо, без того перегруженное. Пишущий и сам восклицает: «Вот так письмо: нелепое, чудовищное, несуразное; пишу его вместо того, чтобы писать статью Лежневу о России (“Исчезни в пространство!”)».
Лежнев – редактор журналов, выходящих в Риге: «Россия» и «Новая Россия» (1922-1926). Строками «Исчезни в пространство, исчезни, / Россия, Россия моя!» оканчивалось прекрасное стихотворение Белого в сборнике «Пепел» (СПб., 1909).
«Мы с Лежневым договорились: в “СССР” правомерно навсегда рассыпалась историческая Россия, физическая, географическая. “СССР” – ширящаяся “эфирная” аура бывшей географической, “физической” России: такой – не будет.
Но осталась другая Россия: в “буди, буди” сознания русского “интеллигента”, в внеклассовом смысле. И этот, еще только становящийся интеллигент понесет миру в нем сконцентрированное “буде, буде!” России как миссию, “обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей”, конкретным братством народов. Теперешний “русский” – только интеллигент, или – никто, а теперешний новый интеллигент – может быть, бывший дворянин, может быть – рабочий, может быть, – крестьянин – “пророк”, или – никто».
Белый держится образов пушкинского «Пророка». Чтоб быть пророком, надо сперва – в «пустыне мрачной» томиться, ходить с вырванным языком («и – ходим!»), ходить с рассеченной грудью, без сердца («и – ходим!»), лежать трупами.
«Тогда лишь “воззовет” (к середине 30-х годов)».
«Разрушимся, онемеем, умрем, чтоб воскреснуть: “русскими интеллигентами”!»
От того, на какой срок оно предположено, – вздрогнешь. К середине 30-х годов города в России по слову другого поэта, болтались «ненужным привеском возле тюрем своих».
Андрея Белого не покинет восторг приятия революции как ипостаси России и приятия России как ипостаси революции (тут еще одно противоположение Блоку: тот незадолго до смерти спросил, зная ответ: «Что если эта революция – поддельная?» О себе, что с ним сталось, вывел: «Слопала таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка»).
Цитируемое выше длиннейшее письмо датируется началом марта 1925 года. Статьи в журнал Лежневу Андрей Белый, видимо, не сдал. Но, надо думать, ее тезисам была близка речь, которую Белый произнес на юбилее журнала. Трехлетие справляли 6 апреля 1925 года в Колонном зале. В «Вечерней Москве» объявлялось: «Выступят с речами Андрей Белый, И.Лежнев, В.Богораз (Тан), М.Столяров. Художественная проза и стихи в исполнении Качалова, Лужского, Москвина, Чехова, Дикого, Завадского, и авторов – Андрея Белого, П.Антокольского, М.Булгакова, Б.Пастернака, Д.Петровского и О.Форш».
После юбилея в той же газете дали отчет: язвили насчет подбора свежих вопросов – «чего ты хочешь, Русь» и «где опустишь ты копыта». «От себя Белый сообщил, что в самом созвучии “рррусс” “звучат сила и свет”. В “ррр”, видите ли, “сила”, а в “ссс” – свет. Занимательно».
Биограф Булгакова уточняет: «Имя Булгакова в отчете не упомянуто» (М.Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988).
Ахматовой полюбилось выдуманное ею слово: «невстреча». У «невстреч» своя значимость. Сколько тут от случайности; откуда антипатия, если причина в ней.
«Невстретиться» Булгакову и Белому было трудновато. Полно общих знакомых (тот же П.Н.Зайцев), одни и те же места, где оба бывают. Присутствие в той и другой судьбе с одной стороны – Лежнева, с другой – МХАТа и его студий.
Статью, обговоренную с Андреем Белым, Лежнев планировал в тот же номер своего журнала (№ 6), в который должен был пойти конец романа «Белая гвардия».
Пятый номер «России» в Москве уже прочитан, Булгаков уже получил записку на бланке Второй студии. Она пришла 3 апреля (как раз перед вечером в Колонном зале, о котором выше). Уговаривать Булгакова студийцам не приходится, он сам 19 января начал прикидывать театральное воплощение еще не допечатанного романа.
Белый для Первой студии, Булгаков для Второй разработают в своих пьесах мотив России-дома: как дом «исчезает в пространство». Метафоре суждено материализоваться…
В первых вариантах у Булгакова квартира Турбиных уходит вверх, снизу подымается квартира неприятного им соседа по кличке Василиса. Когда там упадет завешивавший окно плед, видно чье-то прижатое к стеклу лицо. «Квартира Василисы угасает, уходит вниз».
Это Киев (Город с большой буквы в романе Булгакова), год 1918-й. «Гляньте в окна. Посмотрите, что там видно… Там тени с хвостами на голове, и больше ничего нет». Объемы сокращаются до тени, до силуэта, до детали силуэта: «черные хвосты», «красные хвосты».
Алексея Турбина мучает кошмар. «Уйди. Ты – миф. Ты – харя. …Вон, а то я буду в тебя стрелять. Это все миф.
Кошмар. Ах, все-таки миф? Ну, я вам сейчас покажу, какой это миф! (Свищет пронзительно)».
Силуэты обретают объем, и как еще. Мордобой, грабеж, истязание, убийство.
Впрочем, в спектакле МХАТ Первого сцены между Турбиным и Кошмаром не будет. По числу редакций «Белая гвардия» («Дни Турбиных») не уступит «Петербургу»-драме.
В блистательной и точной книге Анатолия Смелянского «Михаил Булгаков в Художественном театре» отложенный вариант рассмотрен и цитируется большими кусками.
После пронзительного свиста – «Стены турбинской квартиры исчезают. Из-под пола выходит какая-то бочка, ларь и стол. И выступает из мрака пустое помещение с выбитыми стеклами, надпись «Штаб 1-й кiнной дивизии». Керосиновый фонарь у входа. Исчезает Алексей. На сцене полковник Болботун – страшен, изрыт оспой, в шинели, в папахе с красным хвостом».
«Перед нами не ремарка, не обычный служебный текст, указывающий перемену картин. Перед нами – взрыв того театрального и драматургического мышления, которое вдребезги разрушает обычный ход инсценировки». Смелянский определяет это: «булгаковское зрение». Он говорит далее с горечью, что увиденного Булгаковым не разглядели в театре и не сохранили. Безупречно определяет логику, по которой разглядеть не могли и воспользоваться не хотели.
С «Петербургом»-драмой в Художественном Втором происходило сходное.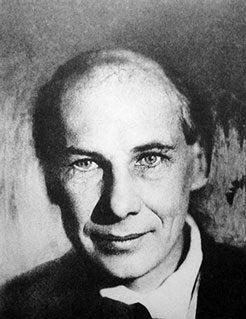
3
Текст передали в Главрепертком заблаговременно. Ответа к началу сезона не имели. Серафима Бирман пишет в августе 1924 года: «Если пойдет “Петербург”, буду работать режиссерски».
«Если пойдет».
В том же письме говорится: «“Петербург” под сомнением в репертуарном Комитете».
И.П.Трайнин, который сейчас в этом Комитете начальствует, ждет совета А.В.Луначарского. Наркому, как и Трайнину, прочитанное не по душе, но он аргументирует: запрещать не надо бы; за Белого – его поведение в недолгой эмиграции, его настойчивость в решении вернуться, вес имени. Пусть Репертком изложит свои пожелания, их учтут.
Луначарский писал Трайнину 29 ноября 1924 года, – в поддержку «Петербургу» обаяние только что сыгранного «Гамлета» (см. постскриптум к письму Чехову, написанному в ночь после генеральной репетиции «Гамлета» 17 ноября 1924: «Несколько слов о “прозе”. Анатолий Васильевич Луначарский передал мне экземпляр “Петербурга”, указав на то, что готов всемерно содействовать разрешению».) Он успел обнадежить Белого: все будет в порядке.
Что считать порядком, однако.
 Берем в РГАЛИ документ из фонда 1990. МХАТ 2., оп. 2, ед. хр. 76, л. 1: «Пьеса “Петербург” может быть разрешена при условии
Берем в РГАЛИ документ из фонда 1990. МХАТ 2., оп. 2, ед. хр. 76, л. 1: «Пьеса “Петербург” может быть разрешена при условии
а) в пьесу должно быть введено одно какое-нибудь здоровое революционное начало в противовес бюрократии и толстовствующим интеллигентам, которые революции не знают;
б) в этом смысле перерабатывается текст;
в) смягчаются все истерические моменты, тяжелым роком давящие на героев и намекающие на то, что происходит собственно не революция, а какая-то сумасшедшая оргия;
г) революция не символизируется домино, играющими такую роль в старом тексте. Старику Аблеухову придаются и некоторые общественные функции, свойственные прежним бюрократам, игравшим огромную роль в политической жизни страны; в старом тексте старик выведен в таком жалком виде, что и убивать его жалко.
Вводятся и массовые действия, символизирующие нарастающую революционность народных масс;
д) настоящий текст считается предварительным и неутвержденным ГРК. Все же театру разрешается приступить к занятиям с тем, чтобы в ходе работы не позже двух с половиной месяцев с настоящего дня представлен был окончательный текст и постановочный план режиссуры;
е) как текст, так и постановочный план будет обсуждаться ГРК и в случае приемлемости окончательно утвержден».
Бумага подписана И.Трайниным, И.Берсеневым, В.Татариновым. Верность подлинному скрепила за делопроизводителя ГРК Н.Степанова. Дата, к сожалению, не проставлена. Вероятен декабрь 1924 года.
Немудрено обсчитаться с вариантами. Реперткомовцы принимают решение по тексту, до которого им был знаком какой-то другой, именуемый здесь «старым». Найти бы…
Бумага вне обсуждений. Подписали и по ее указаниям работали. Хотели выполнить требуемое в срок.
Март 1925 года, Белый сообщает: усиленно репетируют «Петербург», «который я все ретуширую, ретуширую, и, кажется, который я доретушировал до неузнаваемости (даже по сравнению с текстом, который должен идти в Госиздат)». Сами же репетиции – «это скорей медитация над текстом, перманентный семинарий и выращивание из него стиля постановки, меня еще не пускают на репетиции, ибо это какие-то «заумные» действа, а не репетиции в собственном смысле: например, молоточками выстукивают ритм; репетиции в собственном смысле по Чехову – последнее дело: самое легкое; все дело – в пронизании главных действующих лиц ритмами целого.
…Первое его дело (очень сериозное) выразилось в том, что он начертил схему с соотношением светлых и черных импульсов; и расстановку в них действующих лиц. Сначала я много говорил, но не о постановке, а о вовсе другом: о планах, карме, пороге и т.д., а уже другие транспланируют это в идею постановки. Все время идет какое-то воистину коллективное общение между автором, режиссерами и главными действующими лицами».
Отметим: Белый о постановке в театре не говорил.
И он, и Булгаков могли ждать, что в театре захотят и сумеют прочесть постановку, какая ими в том и в другом тексте заложена.
Она там, в самом деле, заложена.
Заложена и записана.
На сцене возникало в итоге разных вмешательств нечто совсем иное. Раза два-три в письмах Белый давал страшноватенькие веселые картинки – как подвигается перепереработка, «изъятия и пришития», «одна сцена рассасывается в другие, центральная 11-я картина выпотрашивается и становится не-
значащей сценкой; десятая, пассантная сценка для отдыха становится заостренным финалом и апофеозом…». Кошмар, в сущности. «Странное Чехово-Белого-Гиацинтово-Берсенево-Реперткомово и т.д. детище уже, конечно, не имеет отношения к основному тексту…». Но – «Я не скажу, чтоб огорчался… Сотрудничество Чехова и рука Чехова во всем успокаивает: все же получится нечто интереснейшее…».
«…мой текст остался у меня и, может быть, выйдет в свет в Ленгосиздате под заглавием “Гибель сенатора”».
(И публикация в Беркли, и российское издание 2010 года восходят к упомянутому Белым тексту. Издательский договор на «Гибель сенатора», как установили Лавров и Малмстад, был заключен 4 декабря 1924 года. Рукопись была представлена 17 февраля 1925 года. Издание не состоялось. Рукопись вернулась к автору, отдали перепечатать, с ней были разные приключения. На машинописи дефектной (с пропусками непонятого ремингтонисткой и с неверными прочтениями многих мест) – автограф Белого: «Полный текст. Первая редакция, которую автор считает удачней той, которая была представлена на сцене».)
Давайте прочтем.
Картина в спектакле-записи вторая.
«При поднятии занавеса сцена у авансцены завешана черным, за исключением квад-рата посредине; квадрат представляет собою внутренность черной кареты, напоминающей внутренность гроба; сквозь окно кареты виден тусклый подъезд желтого дома; видна дубовая дверь; в каретном окне пробегают фигуры прохожих пешеходов с высоко поднятыми воротниками: все фигуры утрированы, точно вырезаны из картона; и – состоят из прямых линий и углов; нет здесь ни одной зигзагообразной линии; в окне пробегает – котелок, уши, усы и нос; пробегают две фуражки с кокардами; у одной нос – утиный, у другой – петушиный; пробегает огромное ухо; пробегает отсутствие носа; пробегает распущенный зонт; за окном – зеленоватое освещение петербургского утра; слышны капли дождя да фырканье лошади; слышны голоса кучера, переговаривающегося с лакеем».
Спектакль-запись может показаться пугающе длинным. Но страницам назначалось спрессоваться в полминуты сценического времени. В картине, где утрированная зримость деталей почти нестерпима, снова и снова – четырежды! – указан темп: «пробегает», «пробегает», «пробегает», «пробегает». «Продолжают мелькать». Дверь «распахивается вдруг».
Слова в этой картине, в сущности, без-
молвной, кажутся вписанными по той же логике, по какой говорливой и тесно заставленной картине первой («Гостиная Лихутиных: небольшая комната без перспективы, набитая диванами, креслами, софами, веерами») предпослан «жуткий свисток пробегающего по каналу пароходика».
Но о звуковой сфере, о предметном мире, о том, как работают свет и цвет – во вторую очередь. Режиссура спектакля-записи начинается с решения пространства.
Из первого ее разговора с Белым запомнилось М.Ф.Кокошкиной, что для него всему предшествовал образ куба. Человек внутри куба. Куб тотчас уточнился. Не куб кабинета, а куб внутри кареты.
Карета дожидается. «В окне продолжают мелькать тени прохожих: слышна рулада автомобиля.
Голос кучера. Шурин-то мой у Кистинтина Кистинтиновича у великого князя кучером: так он сказывал; на Васильевском Острове шло пулянье вчера.
Голос лакея. Население там – фабричное, грубое…»
В оконце видна красная ливрея дворцового лакея и – треуголка; лакей в красной ливрее распахивает каретное дверце; из распахнутого подъезда появляется лакей в сером с золотыми галунами на отворотах; и – делает знаки кучеру; за ним быстро выбегает Аполлон Аполлонович Аблеухов в черном пальто и в высоком черном цилиндре, с серо-зеленым лицом, напоминающим пресс-папье, с двумя малыми белыми бачками, с оттопыренными ушами; остановившись на нижней ступеньке подъезда, натягивает он на руку черную лайковую перчатку, держа под мышкою черный портфель; он бросает мгновенный, растерянный взгляд пред собой, по бокам, на прохожего ротозея-чиновника, испуганного его появлением и стоящего с открытым ртом навытяжку перед сенатором; потом Аполлон Аполлонович стремительно бросается в карету, точно спасаясь в бегство от прохожего ротозея; он быстро усаживается на мягких, черных подушках кареты; и сидит в профиль от зрителей, прямой, как палка; красный выездной лакей в треуголке стремительно запахивает каретную дверцу; в окне кареты видно, как захлопывается подъезд; карета трогается, то есть подъезд уходит направо, и все там мутнеет; слышно цоканье копыт, окрики кучера, гул голосов; силуэт Аполлона Аполлоновича четко вырезан на фоне стекла; Аполлон Аполлонович сидит без движения, рисуя контуром лишь прямые углы; перпендикулярно к коленям он ставит портфель, сжимая его черными своими руками. В окне – ничего не видно; там плывут лишь серые клубы; из капелек дождя возникает тихая, мрачная музыка; из музыки в свою очередь поднимается невидимый четкий, сухой металлический голос».
Это второй ввод металлического голоса. В картине у Лихутиных он возникал за болтовней «Петербурга нет вовсе». Немного спустя в тишине добавит: «Лишь кажется, что он существует».
Голос, металлический и потусторонний, артикулирует общее место. Мнимость, призрачность, обманность северной столицы – сто раз это сказано.
В режиссерском решении спектакля-записи соприкосновения с пошлостью проведено как острый мотив, обдирает до крови. Так он взят с первой картины – сначала в эпизоде гостей, потом в сцене на двоих.
В паузе слышно – захлопнулась дверь
подъезда, гости ушли. Софья Петровна с Николаем Аполлоновичем у окна. «Тяготящий свисток пробегающего пароходика».
Следует сцена, узловая в фабуле спектакля-записи. Узел затягивается грубо.
Окончание следует
