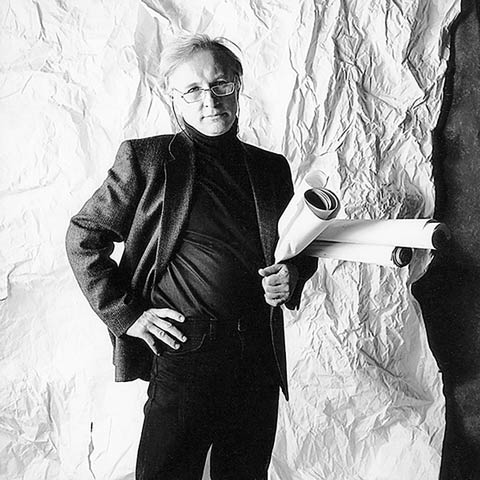
Эдуард Кочергин
Предлагаем очередной фрагмент из неопубликованной рукописи И.П.Уваровой об Эдуарде Кочергине. Начало публикации см. в №№ 4–6, 15–17 за 2022 год.
Балаган вечен. Его герои не умирают.
Они только меняют лики и принимают иную форму.
Вс. Мейерхольд
Одной из ранних театральных работ Кочергина был “Лев Гурыч Синичкин” (спектакль “Театральная комедия”, Театр имени В.Ф.Комиссаржевской, режиссер Рубен Агамирзян). На пустой сцене кубиком стоял маленький павильон. Кубик вращался. По четырем стенам висели занавески, они отодвигались, и становилась видна внутренность павильона, легкого и изящного в пропорциях. Все в нем было как настоящее, но в то же время и игрушечное. Амуры, гирлянды, ламбрекены – веселая игра в театр. Павильон и был маленьким театром – это главное. Сейчас не так уж важно, как он появился у Кочергина. Важно другое.
У этого театрика обнаруживается предок славного происхождения и голубой крови. 30 декабря 1906 года в Петербурге, в театре Веры Комиссаржевской на Офицерской, на сцене, затянутой синим холстом, в чистом небесном пространстве стоял другой маленький театрик, в сущности, похожий на кочергинский, хотя, конечно, иной. Он “имел свои подмостки, свой занавес, свою суфлерскую будку, свои порталы и падуги. Верхняя часть “театрика” не прикрыта традиционным “арлекином”, колосники со всеми своими веревками и проволоками у всех на виду; когда на маленьком “театрике” декорации взвиваются вверх, в настоящие колосники театра, публика видит все их движение”. Так рассказывал Мейерхольд о пространстве “Балаганчика” Блока, одного из самых замечательных своих спектаклей. В нем сильно и просто поработал художник Николай Сапунов. Театрик, который он построил для “Балаганчика”, явился в сущности кукольным, где актеры играли кукол, а на балу плясали маски. Куклу Пьеро сыграл сам Мейерхольд.
Спектакль четко выявил тему балагана – значительную для культуры XX века. Но кто мог тогда предвидеть, как плодотворно и цепко будет держаться эта тема последующие семьдесят лет? Балаган, король площадей, властелин ярмарок, вечный скиталец, странствующий по дорогам мира, вдруг стал актуален и необходим современному искусству. Его боготворили. Ему поклонялись с языческим рвением. Живучесть балагана казалась инфернальной, впрямую связанной с темой смерти и воскрешения. Художники и поэты спешили прикоснуться к нему, веря в его врачующую силу. Само искусство страдало от изнурительных лихорадок эпохи кризиса, и, по словам Наума Берковского, поиски исцеления вели к первоистокам, к корням, к началам.
В конце века XIX одного маленького мальчика водили на Марсово поле – смотреть балаганное представление, и он навсегда поверил в абсолют театра, в его большой общечеловеческий смысл. То был Александр Бенуа. Тогда же и на те же ярмарки ребенком приводили Блока, а в Пензе на масленичной неделе бегал глядеть балаганщиков и петрушек будущий режиссер Мейерхольд.
И когда в начале XX века одна за другой начали рождаться утопии об искусстве, призванном спасти человечество, балаган вдруг явился одной из таких надежд. “Над черной слякотью дороги / Не поднимается туман. / Везут, покряхтывая, дроги / Мой полинялый балаган”. Стихотворение “Балаган” Блока читалось как заклинание. Казалось, что ремесло балаганщика способно сотворить чудо: в пасмурном мире с его появлением возникали свет, радость, надежда.
Собственно на “теории балагана” Мейерхольд построил концепцию своего театра будущего и в двадцатые годы вошел в Театр Революции, вооруженный знанием приемов народного уличного театра. Но изучал он их в десятые годы, в лабораторных условиях своей Студии, в постановках для театров-кабаре, в опытах на императорской сцене. “Дон Жуан” в Александринском театре был им поставлен во славу куклы, “Маскарад” – во славу маски. Родина же кукол и масок – балаган.
Концепция театра, окруженного миром, а также мира, заключающего в себе театр, заложена и в основе эстетики Кочергина. Ненавязчиво проходит она по задворкам разных его спектаклей и редко пробивается к сердцевине сцены. Но, прорвавшись, оформляется в самостоятельное устройство посреди сценической площадки, именуемое балаганом. И тогда все пространство сцены осмысляется как его среда. Сам балаган способен к простым трансформациям – он может стать повозкой, сценой, жильем или катафалком. Но главное его свойство – реформировать окружающее пространство. Он – источник мощной энергии. Зыбкую поверхность одежды сцены можно трактовать как воздух. Балаганная энергия материализует его, сгущает в осязаемую тревожную фактуру, в сгустки материи, принимающие очертания масок. Маски – выходцы из черного тела балагана, которые он источает в окружающий мир.
Вне сомнений, Кочергину досталось наследство куклы и маски. И трудно даже перечислить все его спектакли, где появляются они, то прикинувшись невинной детской игрушкой, то перестав притворяться, выходят на сцену в грозном, древнем своем виде, усмехаясь и паясничая.
Сидит на диванчике в “Валентине и Валентине” (БДТ имени М.Горького, режиссер Александр Товстоногов) кукла; напоминает о детстве Валентины, еще не совсем ушедшем, но уже безнадежно пройденном, и столько тут потерянности, отчаяния, одиночества – от того, что сидит просто так – кукла.
Во “Вкусе меда” (МДТ, режиссер Генриетта Яновская) кукла, огромная, старая, когда-то красивая и нарядная, и уже вынесенная на чердак за выслугой лет, – знак бесприютности и инфантильности обитателей чердака, вместе с нею оказавшихся на свалке, и в то же время знак смерти.
В макете к “Влюбленному льву” (Театр имени В.Ф.Комиссаржевской, режиссер Юлий Дворкин) по всему сиротливому разрушенному пространству раскиданы куклы. Их множество. Они лежат на покореженной земле, ничком, как раненые и убитые после бомбежки. А люди, уцелевшие в этом хаосе, повесили на обломки стен каких-то нелепых тряпичных клоунов, одни головки в колпаках – или только они уцелели после взрыва, эти головки? Беззаботно и по-дурацки они ухмыляются, повиснув на краю израненной стены. Их веселая безмятежность вечна. Если мир руин, куда их занесло, рухнет, и люди исчезнут с искореженного лица земли, куклы уцелеют, наверно.
До поры до времени кукла мирно соседствует с актером на сцене, старательно, усердно работая рядом с ним. Но власть кукольного племени сильна, и не исключено, что художник, впустивший куклу в спектакль, и сам не заметил, как она начинает расти, покорять пространство, посягать на актера, – и вот она уже его поглотила.
В “Ревизской сказке” в Театре на Таганке (режиссер Юрий Любимов) актер обращен в громадную зловещую куклу-мумию. Неведомые силы приводят ее в действие, и актеру требуется немало усилий, чтобы освободиться от кукольной оболочки и кукольных чар. Трагический балаган присутствует в этом спектакле, и все балаганные ассоциации вступают в действие, набирая силу. Куклы, приводимые в движение кем-то или чем-то, намекают на наличие незримого кукловода. Но эти гоголевские куклы появились не на пустом месте. Им предшествовал “Ревизор” в постановке Мейерхольда, где, как писали очевидцы, Хлестаков двигался, как заводная кукла, и где офицер выскакивал из шляпной коробки, как пружинный черт из табакерки. Борис Алперс, пораженный кукольностью странных мейерхольдовых персонажей, говорил о шкатулке с раз и навсегда заведенным механизмом, где движутся в точно заданном направлении деревянные фигурки, отправляя ритуал бытия.
В “Мольере” (БДТ, режиссер Сергей Юрский) тема балагана разлита по всему спектаклю. К финалу она уплотняется, выступает четко в виде маленькой сцены, на которой Жан-Батист Поклен или господин де Мольер, великий актер Франции, дает последнее в своей жизни представление “Мнимого больного”. Театр в театре – это причудливый балаган, где на ширме мотаются огромные монстры, жуткие и комичные – актеры в бледных круп-ных масках, которые могли быть рождены бредовым горячечным сознанием умирающего Мольера. Он болен, разбит и сломлен, смерть уже поджидает его, притаившись за кулисами, маски напоминают мертвецов, актеры в масках – кукол с движениями механическими и заведенными. Не так ли двигались марионетки в кукольном театре Сен-Жерменской ярмарки? Мольер помнил о них всегда, многому у них научился. Они и явились в последний его спектакль.
И как тут не вспомнить, что своего прославленного “Дон Жуана” на александринской сцене Мейерхольд некогда ставил так, что критики назвали постановку “нарядным балаганом” (чем Мейерхольд гордился). Издеваясь над оппонентами, терпеливо, но и высокомерно, он поучал, что мольеровский Дон Жуан – ярмарочная марионетка, вынужденная скрываться в масках после “Тартюфа”…
И если теперь мы снова обратимся к булгаковской пьесе, которую выпало делать Кочергину, и вспомним все те несчастья, которые сыпались на Мольера после “Тартюфа” и в конце концов его убили, ¬- не странно ли, что умирающего старого Мольера Кочергин отправил на балаганную сцену в компанию масок? Странно, но закономерно.
В “Гамлете” (Красноярский ТЮЗ, режиссер Кама Гинкас) Кочергин не строил повозки бродячим актерам, и не было там никакой специальной площадки, на которой игралась “мышеловка”. Потому что брошенным балаганом, износившимся в скитаниях, оказавшимся полуразрушенным на берегу Северного моря и в конце концов ставшим обителью королей, являлось все это убогое строение (оно же корзина и курятник). Этот балаган уже утратил свои чары и растерял рецепты спасения из безвыходных ситуаций, – иначе с Гамлетом, принцем датским, все могло бы обойтись более благополучно. Но кое-что он еще мог, и, подобно дряхлому жонглеру, показывал иногда какой-нибудь фокус. Алле-оп!
Опустившись на колени у края могилы, актер держит в руках череп бедного Йорика, королевского шута, прикрыв его макушку полою бараньего жилета. И вот череп снова превращается в голову шута. Он скалит зубы в голой улыбке; над глазною впадиной повис беспечный бараний чуб. Он – маска мертвого шута и кукла в руках живого актера.
Странствующие актеры, явившиеся ко двору сыграть пьесу по приглашению принца, входят на ходулях, на их лицах – маски. Огромные, нелепые, долговязые куклы деревянно шагают, раскланиваясь и кривляясь.
Даже в “Похожем на льва” (Театр драмы и комедии, режиссер Кама Гинкас) появляются маска и кукла. Правда, кукла – золотой купидон, запутавшийся в сетях тюлевых драпировок где-то и вовсе за пределами сцены. Маска – всего лишь спортивная маска фехтовальщика. И все же они – знаки того, что бытовая заземленность пьесы обманчива, и тут тоже происходит нечто, о чем дано говорить древним театрам любого сорта, хотя бы низкого. О жизни, которую мы проживали случайно, о смерти, которая приходит к нам нежданно, и, отмечая ее приход, предметы на сцене должны сыграть свои роли: часы – упасть, чехлы – опасть, а вода – пролиться из крана. Обыкновенное ярмарочное чудо.
А в “Насмешливом моем счастье” (Театр имени В.Ф.Комиссаржевской, режиссер Кама Гинкас) – не отыщем ли мы маленькой сцены в задней стенке декорации? И если она там есть – не стоит удивляться. В пьесе, к которой мы привыкли так, что и не замечаем в ней скрытого невероятного, происходит невозможное: там люди выходят из строк пожелтевших писем, память говорит человеческим голосом. А уж если художник обнаружил в материале пьесы невероятное, он вправе отнестись к такому феномену, как к чуду; чудо же требует своей собственной сцены, и это сцена балагана.
На маленьких подмостках, задвинутых в глубину старинной комнаты в спектакле “Кошки-мышки” (БДТ, режиссер Юрий Аксенов), начинаются те же чудеса, творимые человеческой памятью, и вот воспоминания, спрятанные в семейных фотографиях по стенам, выступают в своих старинных и призрачных ролях, распоряжаясь судьбами героев и играя с ними, как с куклами.
В “Генрихе IV” (“Современник”, режиссер Лилия Толмачева), Кочергин сконструировал огромную расписную стенку хитрого устройства, способную падать на пол, трансформироваться в коробку, открывать боковые дверцы, в которых зажигаются светящиеся портреты. Все это отдаленно напоминает сценические превращения, происходившие в хорошо оснащенных балаганах. По всей поверхности стены написана картина, старинный пейзаж с облаками, землей, лужайками, деревьями, имитирующая шпалеру или старый гобелен. Стенка стоит на пустой и темной сцене, доказывая своим существованием, что мир во всей его яркости, гармонии и красоте проявляется, лишь подвергнувшись чудодейственному свойству балагана, и расцветает в полную силу, попав в поле его сценической площадки.
Происходящее на балаганной сцене есть шутовское действо, ворожба и чертовщина. И все фантасмагорическое, что происходит в “Селе Степанчикове” (Театр Комедии, режиссер Вадим Голиков), – эти бескостные бесформенные существа, вдруг грозно разрастающиеся в прозе Достоевского до исполинских размеров (так растет на наших глазах Фома Фомич), смахивают то на карликов, то на великанов, которых показывали на ярмарках.
Шарлатаны, фигляры, фокусники – боги балагана. К творцам подобных чудес примкнул и сценограф.
Уже обращало на себя внимание исследователей одно обстоятельство: в определенных сюжетных ситуациях (в минуты наивысшего напряжения) в романах Достоевского начинают появляться куклы и маски. Саркастически и язвительно описанные им доктора-немцы подозрительно похожи на куклу-лекаря, которую Пет-рушка нещадно лупцует палкой по деревянной голове, – сценка уличного театра, столь популярного в девятнадцатом веке, когда кукольники и шарманщики ходили по городу, выступали в каменных колодцах петербургских дворов. Кукольник, матерчатая ширма и ящик с куклами – вот и все, что уцелело от балагана, но – уцелело.
И случайно ли Раскольников на выходе из проклятой заповедной зоны встретил шарманщика и черноволосую певицу? Уличные актеры, они таскали с собой древние балаганные заветы, и внимательный глаз определил бы их сразу, хотя изменился и репертуар, и наряд актрисы. И все же зазывная, шутовская, кричащая сущность балагана осталась при них: мантилька и шляпа с пером у певицы – те же “лохмотья, шитые пестро”, которые носила Коломбина.
Наконец, разрешение одной из самых безвыходных и отчаянных ситуаций романа “Преступление и наказание” происходит в лоне уличного театра. Трагедия Катерины Ивановны, обрастающая все новыми бедами, подобно пружине, сжимается до предела в зоне бедствий. Но, вырвавшись из-под давления, пружина сюжета с силой выбрасывает обитателей “зоны” – Катерину Ивановну и ее детей – на улицы Петербурга. Потеряв рассудок и нарядив детей в шутовское платье, она устраивает трагический балаган. Безвыходность реальна, а вот спасение, пришедшее через балаган, лежит поверх реального (смерть Катерины Ивановны – выход; судьба детей таким страшным образом оказывается устроена).

Костюм Юродивого и макет к спектаклю “Борис Годунов” на выставке “Избранное” в ГЦТМ имени А.А.Бахрушина
И если мы вспомним, что в центре поэтики Кочергина находятся спектакли, совпадающие по внутренней конструкции и реалиям со “сценой” сакральной зоны, – на которой происходят наиболее напряженные события у Достоевского, мы вправе допустить, что атрибуты балагана возникают в поэтике Кочергина не случайно, но строго закономерно. Куклы и маски в сценографии “Влюбленного льва”, “Гамлета” и “Бориса Годунова” – все это результат крайней напряженности среды, ее пограничного состояния, выход из угрожающего ей распада и крушения, переход в иное измерение. И не с помощью ли балагана в какие-то моменты реализуются мифопоэтические схемы кочергинской сценографии?
В “Борисе Годунове” (Псковский театр имени А.С.Пушкина, режиссер Владимир Иванов) у Кочергина проступает уже хорошо знакомая нам конструкция: павильон, в его задней стенке – прореха; задняя стенка с отверстием образуют нечто вроде малой сцены. Вся организация пространства напоминает простейшую выгородку, какую можно себе представить на провинциальных подмостках бедного ярмарочного театра, кое-как, из обрывков мешка, слепившего утлую одежонку своей первичной сцены. Ветхий покров укреплен на столбах, их обнаженные верхушки торчат, как стволы на пожарище. В дальней тряпичной стене разинута дыра – выход на сцену, а в полу – отверстая дырка люка. Все трактуется здесь как недостаточность: не хватило тряпки залатать дыру, не было доски забить прореху, недостало лохмотьев прикрыть наготу столбов. В убожество балагана стекла вся нищета горемычной земли. К языкам лохмотьев привязаны мелкие колокола, от колоколов беспорядочно падают на пол веревки, болтаются оборванными проводами. К концу одной веревки примотана дохлая ворона. Похоже, что в выгородке балаганной сцены находится какой-то древний, попорченный пульт управления всея Руси, и другой конец веревок привязан к колокольне нищей деревни, к ветке леса, к мокрой туче, висящей в небе над голодной орущей стаей.
Здесь беда и ее осмеяние, безысходность и пародирование безысходности; трагедия и ее отражение в кривом зеркале комедии, хранящемся в балагане.
“Ось трагедии – рок, полюса оси – мистерия и арлекинада”, – вычислял Мейерхольд структуру древнего и вечного подлинного театра. Театр будущего, задуманный им, должен был стоять на двух опорах, на двух китах, где было бы место подлинной трагедии и подлинному балаганному началу, шутовская сила которого обратно пропорциональна силе трагедии.
Рок властвует на обреченной земле, где Годунов заплатил за шапку Мономаха кровью ребенка; расклад трагедии каноничен, сюда вошел страдающий убитый герой, и Рок пользуется убийством не столько как поводом, сколько как подсказкой и руководством к действию, готовым развернуться на всем поле трагедии.
А балаган послал сюда юродивого, и он клянчит у царя свою копейку, зябко кутаясь в лохмотья того же тряпья, из которого соткан мир вокруг. И трагический мир – рубище нищей голодной Руси – у Кочергина обращался в лохмотья гаера. Воз-вещая своим появлением о том, что на смену трагедии спешит комедия, что абсолютизм Рока в сущности относителен, что есть нечто, действующее наперекор смерти, балаган “Бориса Годунова” развертывается от того пункта, где возникает юродивый.
Есть твердые закономерности появления в литературе и искусстве такого поворота дел, и при подобном стечении сюжетных обстоятельств появляется некто, подобный юродивому от Пушкина, – в другом, бесконечно удаленном произведении. Ольга Фрейденберг писала, что вся одиннадцатая песнь гомеровской “Илиады” состоит из мнимых действий, тщетных битв, бегства, позора, безнадежности, “злого обмана”. Именно в этой “призрачной песне появляется фигура шута, Терсита, этого носителя уродства, инвективы и смеха”. Решительно такие же зрительные образы, утверждала она, функционировали и в античном низовом театре. Античный балаган и его потомки глумились, передразнивали, изображали мнимое как настоящее, промышляли розыгрышем и грубыми шутками. Их взрастило искусство и выпустило на подмостки после трагедии, рядом с трагедией – спасать ситуацию, выводить из беды, снять катастрофу, разыграть ее на балаганный лад.
Всмотревшись в образ балагана, так упорно возникающий в разных произведениях начала двадцатого века, мы обнаружим, что с полинялым балаганным фургоном были сопряжены надежды художников на магический потенциал искусства. И когда Блок пишет: “Тащитесь, траурные клячи! / Актеры, правьте ремесло, / Чтобы от истины ходячей / Всем стало больно и светло!” – мы едва ли можем представить, что в этих строках не только метафора. Однако люди Серебряного века верили, что балаган совершит величайшую перемену в мире, и на смену траурной тьме воссияет свет.
Смена тьмы и света – тоже от греческого балагана, от иллюзиона, от показа освещенных картин: они появлялись за раскрытыми дверцами шкапчиков, из-за отодвинутой занавески, а показывали это фокусники и балаганные шарлатаны, которых Плутарх уважительно называл “деятелями чудес”. Древняя, как мир, устойчивая, как земля, простая и плутоватая природа балагана живет всегда на этой планете, и нет ничего проще и надежнее ее механики: с одного барабана на другой перематывается лента с изображением в греческом райке и в райке московском, и в петербургском балагане на Марсовом поле. Не этот ли механизм вращения – вечный двигатель? Арена – в балаганном цирке, по кругу бегут нарядные лошадки, вокруг площади кружат повозки, совершая ритуал масленичного катания, и карусели, и гигантские шаги. А в глухой деревне российской испокон веков кружится весной колесо на палке – балаганный двигатель в “чистом виде”…
Это ли обеспечило ему вечную жизнь или какие-то другие свойства, но поворачивается колесо истории, и балаган въезжает в XX век, на сцену, где собираются ставить спектакль, а сценографом тут – Кочергин.
До сих пор мы говорили о некоторой территориальной связи, собравшей воедино подобные друг другу явления искусства в петербургских пределах. А как быть с развитием балаганной традиции в мировом искусстве?
В каком родстве к балагану Кочергина окажется тогда, например, Борис Кустодиев с “Блохой” или Александр Тышлер со своим “Королем Лиром”? Да и весь мир Тышлера (его шуты, скоморохи, бродячие шарманщики; его домики и карусели; его актеры и актрисы, несущие на себе кукольные театрики и маски) может быть объяснен и понят, очевидно, только с позиций эстетики балагана.
И разве Чаплин, трагический клоун эпохи, не выстроил среди безумного мира свой собственный балаган одного актера, печального клоуна в маске Чарли, рыцарственно охраняющего человеческое достоинство? И откуда, как не из балагана, пришли в европейскую живопись герои Пабло Пикассо, его паяцы в лоскутных трико, его девочка на шаре и белые распадающиеся трагические маски. Из балагана вышел одинокий мим, Марсель Марсо, ревниво сохранивший заветы древнего искусства, и маску, и жесты, и магические приемы великого ремесла.
И как бы ни была кратка наша экскурсия в поисках балагана – как миновать фильмы Ингмара Бергмана? Бродячий фургон, крикливое тряпье, вызывающе нацепленное на актеров, белые маски, ситуации, которые разыгрывает с актерами жизнь, следуя древним лацци, – все есть торжество балаганной темы. Балаган выставляет актера на посмешище, но только в нем человек обретает прощение и понимание.
А единственный человек в бесчеловечном мире романа Генриха Белля: “глазами клоуна” он смотрел на мир и верил в чудо победы человека; его позиция, его вера и его противостояние – все это от надежд, которые не отчаялось возлагать на балаган искусство XX века.
И кого, как не балаганного шута, увидел перед собой Курт Воннегут в “Бойне № 5”, когда обрядил своего героя после бомбежки в серебряные бутафорские сапоги и звездный театральный плащ? А “Золушка”, сыгранная военнопленными в лагере, – разве это не было настоящим балаганом, выросшим среди бойни?
Чем больше трагедия и ее накал, тем закономернее появление темы балагана, охраняющей человека, попавшего в трагические ситуации, разыгранные историей в театре мировых событий. Искусство XX века, защищая обреченного на гибель героя, прячет его в маске балаганного шута, обряжает в лохмотья площадного фигляра, учиняет этот маскарад, чтобы обеспечить ему, неузнанному, бегство от смерти, идущей за ним по пятам. И увозит от катастрофы в балаганной повозке.
Когда Кочергин обдумывал своего “Бориса Годунова” в Ленинграде, около того же времени в Опалихе под Москвой Давид Самойлов писал поэму “Последние каникулы”. В этой поэме художник и поэт совершают путешествие в иные времена на ярмарку, в Средневековье. Прошедшие века и нынешние дни становятся единством, подобным тому, какое можно встретить у Кочергина. На средневековой площади европейского города раскинуты пестрые шатры бродячих комедиантов, – и вот в мире, где поставлен балаган, начинает твориться чудо.
Поэт отправляется в путешествие, прихватив с собою средневекового мастера Вита Ствоша. Они идут лесами и городами, в пронзительной ясности им открываются времена и пространства, и с зорким прицелом сценографа, выстраивающего свое мироздание на перекрестке веков и материков, поэт разглядывает звезды и придорожный куст в ночи. Балаган Самойлова веселый, и его колдовство выводит из трагических коллизий. Поэт и мастер беседуют о стихиях, о краковском алтаре, бессмертном создании Вита Ствоша; о таинстве творчества и о том, что “искусство – смесь небес и балагана” (“Высокая потреба / И скомороший гам!.. / Под небом – балаган. / Над балаганом – небо!”)
Формула, открывающая внезапный ход к постижению того единства реальности и творения художника, которое именуется искусством. Алчно, но привередливо творение художника впитывает в себя реалии окружающего мира и, насытившись ими, оно посылает в мир его преображенное подобие. Портрет, скульптуру или куклу на случай, если нужно произвести магические действия над оригиналом. Что это, отражение? Нет. Оно выходит из зазеркалья творчества, из черного кабинета балагана. Оно смотрит со сцены и не спешит спуститься к нам, медля и соразмеряя свои силы с нашей потребой в нем и проверяя, готовы ли мы слушать и понимать чревовещание балаганного шарлатана и пророческий голос искусства.
И не в том дело, что в сценографии Кочергина есть ингредиенты, указанные в этой формуле, и мы нашли там и пространство небес, и балаган. Но небо и балаган – приметы искусства, подключенного к нам гораздо активнее, чем нам кажется в тот миг, когда на сцене мы видим отчужденный и скуповатый мир “Бориса Годунова” или “Истории лошади”.
Публикацию подготовила Ольга КУПЦОВА
«Экран и сцена»
№ 1-2 за 2023 год.
