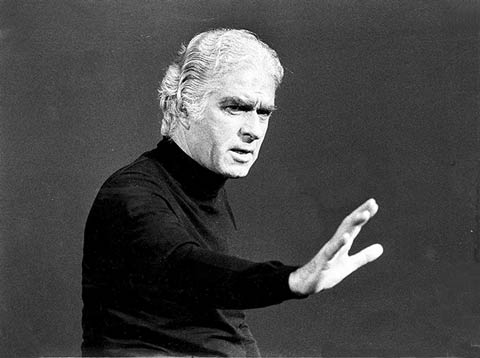
В одной из наших бесед во время пандемии Алексей Вадимович Бартошевич сказал, что нынче, когда просмотр театральных постановок онлайн (в особенности легендарных, сыгравших огромную роль в развитии мирового театра) становится нормой, было бы важно сопровождать видеоспектакли предисловиями тех, кто их видел вживую и может объяснить, чем они оказывались для того момента, когда создавались. 14 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Джорджо Стрелера. В YouTube хранятся записи его спектаклей (к несчастью, не всех). Мы попросили Алексея Бартошевича рассказать о своих впечатлениях от встреч с великим режиссером и его шедеврами.
– Когда в Москву первый раз приехал “Арлекин, слуга двух господ” (его играли в Малом театре, поскольку “Пикколо” и Малый были побратимами), зрители на спектакле испытывали то, что можно назвать “комедийным катарсисом”. С одной стороны – все тело истомлено от смеха (истома была почти блаженной) и с другой – охватывала фантастическая душевная легкость. Как будто все дурное из вас выпотрошили, и осталось одно счастье, причем не только театральное. И вот я, студент-третьекурсник, иду после спектакля к выходу, и кто-то за моей спиной говорит своему спутнику: “Как жаль, что Стефан Стефанович не дожил до этого спектакля. Как он был бы счастлив!”.
Стефан Стефанович Мокульский умер незадолго до того лета, когда Стрелер привез спектакль, который нам потом посчастливилось видеть много раз. И живьем, и в записи. Имя Мокульского вспомнилось кому-то из публики неслучайно, комедия дель арте и итальянский театр XVIII века были главными темами его жизни, одной из главных тем гвоздевской школы, из недр которой он вышел. Как бы сам Гольдони ни бранил театр масок, возглашая, что тот губит итальянскую сцену, не позволяя ей вознестись до интеллектуально-просветительского уровня театра французского, все равно он весь вышел из комедии дель арте, уж не говоря о “Слуге двух господ”. Помню, как Мокульский смеялся на гольдониевском спектакле студентов ГИТИСа. Все его тело ходуном ходило, сотрясалось от счастливого хохота. Это был его автор, его театральный мир. Легко себе представить, какой радостью стал бы для него стрелеровский “Арлекин”. Как, впрочем, и для всех нас, сколько бы раз мы ни смотрели великий спектакль.
“Арлекин” Стрелера был озарен радостью не только театральной, но также и социально-исторической. Ведь спектакль в первой редакции 1947 года был, как известно, проникнут чувством освобождения, послевоенного освобождения от фашизма.
– Первый приезд театра “Пикколо ди Милано” с “Арлекином” в самом начале 60-х производил грандиозное впечатление. Не склонный к восторгам Николай Акимов писал: “Виртуозная изобретательность, проявленная Стрелером, отнюдь не ограничивается “интерпретацией” пьесы; ни в каких ремарках не уместить того изобилия игровых находок, великолепных трюков, проявлений искрометного юмора, которыми режиссер дополняет и обогащает классический авторский материал”. Я помню ваш рассказ о другой версии “Арлекина”, увиденной на сцене “Пикколо”.
– Мне посчастливилось видеть то, что Стрелер назвал прощальной версией “Арлекина”. Я оказался в Милане на съемках телепрограммы, и нас повели на премьеру. Перед входом висела афиша, и я помню странный фон этой афиши – довольно сумрачный. Но когда спектакль начался, видевшие его прежде узнавали те же мизансцены, те же знакомые приемы. Играли, по большей части, те же актеры. Естественно, без Марчелло Моретти-Арлекина. Он умер очень вскоре после того, как театр гастролировал в Москве, Моретти был смертельно болен, знал об этом. Приготовил себе смену – Ферруччо Солери, тогда совсем юного. Сам готовил себе замену в своей коронной, прославившей его роли, зная, что ему осталось жить недолго. Настоящий человеческий подвиг.

– Преемник (Солери в этом году исполнится 92 года) многократно бывал в России и не только играл Арлекина, но и выступал с мастер-классами и лекциями, посвященными комедии дель арте.
– Кстати, у меня был разговор с Ферруччо Солери в Милане. Мне предстояло интервью с артистом для телепрограммы. Оно началось на улице перед театром. Вдруг из какой-то ближайшей лавочки выходит тетка, она подошла к нему (а съемка идет), поцеловала, благословила и молча ушла. Непредумышленный знак того, что значил для миланцев этот актер и этот спектакль. В интервью я его спрашиваю: вы столько лет играете одну и ту же роль. Не препятствует ли это вам? Не устали ли вы от Арлекина, не надоел ли он вам? Задав эти банальнейшие из банальных вопросы, получил не вполне банальный ответ: “Нет, ну что вы! Я столько денег заработал благодаря этой роли!”. Возвращаясь к спектаклю, должен сказать, что Солери в этой прощальной версии был и тот же, и другой. И весь спектакль был и тот же, и совсем иной. Мало что оставалось от безоблачного ликования по поводу того, как хорош мир. Время переменилось. Одно дело – 1947 год. А конец 1980-х – совсем другое. Спектакль, сохраняя все свои внешние черты, очевидным образом поменял смысл. Мизансцены те же, исполнители в основном те же, довольно пожилые дамы и господа, игравшие по-прежнему молодые роли. Что изменилось? В первом классическом варианте действие спектакля происходит на старинной городской площади, на которой стоят подмостки. На этих подмостках бродячие актеры заезжей труппы разыгрывают свое, переполненное ликующей радостью жизни представление. На этот раз на сцене не было ни площади, ни подмостков. Зад-ник располагался совсем близко к рампе, оставляя для актеров узкое, тесное, сдавленное пространство. Оно представляло собой что-то тусклое – ровного серого цвета – как бы стена тумана. Туманная, мокрая, промозглая Венеция. За стеной тумана угадывались трепещущие, тревожные огни факелов. При этом, что, может быть, самое существенное – Стрелер поменял всю систему освещения в спектакле. В классической версии перед началом суфлер выходит и расставляет свечи по краю рампы… Они не более чем атрибут старинного театра. А здесь свечи, то есть совершенная технически имитация свечей, стали главным источником театрального освещения, а тем самым основой образного строя, носителем смысла спектакля. Свет на актеров шел снизу. Над их головами возникала туманная темнота. Маска, освещенная снизу, превращалась в некое монстрообразное существо, неведомого зверя. На сцене те же самые персонажи комедии дель арте, играющие тот же, всем знакомый гольдониевский сюжет, но их лица-маски, подсвеченные снизу, создавали картину мира, полную мрачновато гротескной жути. Комическую историю разыгрывала компания каких-то смешных и страшноватых бесов, персонажей дьяблерии. Сам Стрелер в своей книге писал о демоническом начале Арлекина, среди театральных предков которого был мистериальный черт Эллекин. В каноническом спектакле, хоть убей, ничего демонического не было, ничего, кроме радости жизни, плещущей через край. А вот тут, в этих нечеловечески стремительных прыжках, беге и полетах Арлекина, как его теперь играл Ферруччо Солери, в самом деле, начинало рисоваться что-то потустороннее, жутковатое. Понятно, почему Стрелер считал эту версию прощальной. Для него это было прощание не только со спектаклем, но и с собственной театральной молодостью, с тем, что во всем мире с этим спектаклем и с его искусством ассоциировалось. Стрелер поклялся, что больше “Арлекина” на сцену не выпустит. И сдержал обещание. Правда, не совсем. Довольно скоро он опять поставил этот спектакль, но со студентами, своими учениками.
– Строго говоря, только первые спектакли, привезенные в Москву и Ленинград, с Моретти – поставлены великим режиссером.
– Да. Ученики, ассистенты Стрелера после его смерти собрали спектакль в том виде, в каком он шел прежде, в классической версии. Этот же вариант можно видеть в записи.
– Когда-то мы с вами составляли “реестр театральных радостей” и признались друг другу, что самым главным и самым любимым из спектаклей Стрелера остался для нас “Кампьелло”.
– “Кампьелло” – образ театрального совершенства, может быть, лучшее из всего, что я видел на сцене. Но – странное дело. Он в Москве был принят далеко не всеми. Помню, как одна знаменитая театроведка говорила: “Ну, что это! Скучища! Где наш Гольдони? Где тут Бахтин и карнавальная культура?”.
В первый раз я видел “Кампьелло” в Варшаве на международном фестивале в 1975 году. Там была изумительная программа. В нее входили и диалог Гротовского с Бруком, и “Двенадцатая ночь” Бергмана, и спектакль Сузуки. И все равно “Кампьелло” стал высшей точкой этого фестиваля. Нас посадили в бельэтаж, и я сверху все рассматривал покрывавший сцену снег. Снег, вдруг выпавший в солнечной, жизнерадостной Венеции. Снег, которому страшно радуются жители кампьелло – маленькой площади, куда выходят задние фасады домов одного квартала. В центре ее – колодец, и возле него собираются обитатели, болтают, ссорятся, влюбляются и расстаются. Они и снежками кидаются, и на заднем плане с восторгом съезжают по снежным горкам. И крыши домов покрыты чистейшей белизной. Я все пытался понять, из чего этот снег сделан. И даже написал в рецензии, что это какое-то замечательное вещество, ослепительно белый порошок. А когда они были в Москве, я подошел к сцене и убедился: снег – это конфетти, атрибут карнавала. Печальный, грустный, тихий праздник, прощающийся с самим собой. Это спектакль о гибнущей Венеции, о тонущей Венеции. Как раз тогда, когда он был поставлен, газеты писали, что что-то происходит с почвой, сваями, и Венеция с каждым годом опускается все ниже и ниже. Спектакль как раз и был о медленно умирающей Венеции, уходящей в небытие. Но дело вовсе не в воде и не в сваях. Мир обитателей “Кампьелло” очень близок к тому миру, который рисовался перед нами в неореалистических фильмах. Та же среда бодрого простонародья, нехитрой, наивной любви, прелестной повседневности, густого, перенасыщенного быта… Но в неореалистических картинах этот мир, простодушный и прекрасный, заключал в себе надежду, что ему, этому миру и его людям, принадлежит будущее. А Стрелер поставил спектакль о том, как эта вселенная гибнет и угасает. Это прощание не столько с тонущей Венецией, сколько с этим прелестным, беспредельно чистым, как снег, миром. И людьми, живущими простыми чувствами. Персонажи спектакля дерутся, ссорятся, мирятся. Помните чудную сцену, когда две кумушки у колодца, стоя перед лужей (ведь снег, понятное дело, в Венеции, а не в Мурманске, и он тут же тает), ругаются, а потом бьют каблуками по луже, чтобы облить соперницу. Для Стрелера ссоры и скандалы персонажей – милые бранятся, только тешатся. Эти люди любят друг друга, и спектакль полон горькой и светлой любви к ним. И печали, потому что лучше этого мира быть не может, а конец его неотвратим. Ближе к финалу неаполитанский кавалер (неаполитанский, значит иностранец, его и понимают плохо из-за диалекта) влюбляется в одну из дочек жителя кампьелло, пара уезжает в Неаполь, а перед отъездом прощается с обитателями венецианского перекрестка. Помню мизансцену. Как всегда, у Стрелера, она была создана просто и прекрасно. Персонажи выстраиваются в один ряд, и новобрачные подходят по очереди к каждому – прощаться. И тут Стрелер находит такую грандиозную деталь: эта пара еще в Венеции, но уже как будто и не там. Между теми, с кем прощаются, и теми, кто прощается, лежит какая-то черта, невидимая дистанция. Гаспарина тянет руку к лицу то одной, то другой своей подруги, но не касается лиц. Потом пара уходит в темноту зрительного зала. Кампьелло – не Сан-Марко, откуда доносится музыка далекого карнавала. Музыка еще звучит. Площадь пустеет. В центре площади – дом с окошком. И предпоследнее, что мы видим, тихо танцующие за окном пары. Потом протягивается рука и закрывает окошко. Перед нами пустая сцена и падающий снег. Мало что в театре может сравниться с этим светом и печалью. Для Стрелера этот мир жизни на людях и с людьми – душевная опора. То, что он полагал чем-то святым и что навсегда уходит.
– Я никогда не забуду это окно с танцующими персонажами. И этот финал, после которого не хотелось уходить из зала. В телепрограмме о Стрелере Михаил Левитин также вспоминал “Кампьелло” как самое сильное впечатление своей театральной жизни. Он тоже долго не мог выйти из зала. “Нас было двое, кто остался в партере, – говорил он, – я и Алексей Бартошевич”. Есть замечательные воспоминания об этом спектакле у Сергея Юрского в книге “Кто держит паузу”.
Вы встречались со Стрелером. Расскажите об этом.
– Вскоре после того, как мне довелось увидеть прощальную версию “Арлекина”, я опять оказался в Милане (мы готовили итальянский фестиваль в Москве, куда Стрелер привезет “Grande magia”).
– Великая магия – то, чем он всю жизнь занимался.

– Именно. Так вот. Нас повели на репетицию Стрелера. Он репетировал не в театре, а в помещении школы, которую ему построили незадолго до этого. Современное помещение фантастической красоты. И репетировал он “Фауста” Гете, где должен был сыграть заглавную роль.
После репетиции мы с ним встретились. Вовсе не собирались говорить о политике. Это был 1990 год. В его атмосфере уже чувствовалось то, что предшествовало следующему, 1991-му. То есть, предпосылки реставрации, попытка переворота. В России было неспокойно. Иллюзии, порожденные горбачевской перестройкой, начинали таять и рассыпаться. И уже мало кто на рынках Европы торговал советской символикой. Стрелер, человек политический, близкий к компартии, вдруг разразился пламенным монологом о Михаиле Горбачеве. Он сказал: “Вы – русские – неблагодарный народ. Вам история подарила величайшего человека, вы на него молиться должны. Чем вы недовольны? Вы должны быть счастливы. Не поеду в страну, где так относятся к историческому гению. Нога моя не перешагнет вашей границы”. Слава богу, перешагнул, приехал.
В середине 1990-х годов я был членом жюри премии “Европа – театру” в Таормине. Собственно, речь шла о двух премиях. Тогда Стрелеру дали главную премию, а Анатолию Васильеву – за театральные искания. Там был такой принцип: каждому лауреату предоставляли театральное пространство в полное его распоряжение. Стрелеру – на три дня, Васильеву – на один. Делай, что хочешь. Показывай, рассказывай, выступай, приводи кого хочешь…
На сцене стоял длинный стол, в центре которого сидел Стрелер, а рядом находились самые главные его люди: актеры, сценографы, администраторы. Он говорил без перерыва три дня подряд с диким, яростным темпераментом. Время от времени прерывал свою речь и со странной смесью иронии и серьезности произносил, обращаясь к кому-то из тех, кто был за столом: “Расскажи, какой я великий!”. И тот, на кого указали пальцем, начинал с некоторой робостью, но и с искренней пылкостью говорить. “Так, стоп! А теперь ты скажи”. Что-то вроде первой сцены “Короля Лира”. Вынести этот сумасшедший трехдневный напор энергии было просто физически трудно. Не так давно я видел видеозапись репетиции “Трехгрошовой оперы”. Стрелер сидит в зрительном зале. С тем же яростным темпераментом и предельным накалом кричит артистам: “Не то!”. Потом ему надоедает сидеть. Он же актер. С этого начинал. Он вспрыгивает на сцену и вместе с другими актерами, игравшими шерифа Брауна и Мэкки, начинает петь.
– “От Гибралтара до Пешавара”.
– Да, конечно! Стоит найти эту запись. Не то чтобы он играл за артистов. Он их заводил, служа зарядным устройством невиданной мощности, заражая этой сумасшедшей, нечеловеческой энергией. И актеры тут же отзывались этой бешеной скачке ритма. Что-то похожее делает с актерами Юрий Бутусов.
– Когда начался карантин, многие спасались, пересматривая спектакли прошлого. Среди них, конечно же, были “Дачная трилогия” и “Вишневый сад” Стрелера. Вы говорили о “Кампьелло” как о спектакле-прощании. Но ведь и “Вишневый сад” – нежный, грациозный – также можно назвать прощальным.
– Конечно. И это не просто прощание – скорее, погребение. В финале колышущееся белое небо над головами чеховских героев вдруг превращается в саван, накрывающий этот мир. Великий спектакль. Великий во всех мельчайших деталях. Хочу вспомнить об одном из ключевых его моментов. Одна из сложностей, встающих перед каждым режиссером, ставящим “Вишневый сад”, – как решать таинственный звук во втором акте – звук лопнувшей струны, разрыв какого-то главного сосуда, дающего жизнь телу вселенной. Но кто знает – может быть, просто-напросто бадья в шахте сорвалась. И то, и другое одновременно. Сколько было разных “вишневых садов”, столько мы видели версий прочтения этого момента – от сугубо бытовой – бадья и все тут, до мистической – в духе Леонида Андреева. В спектакле Стрелера мы никакого звука не слышали – он был “слышен” только людям на сцене. Они одновременно вздрагивали, и лица их становились тревожны.
Я делал тогда большой цикл передач о западной режиссуре, и среди них была программа о Стрелере. И вот я там рассказывал об этом моменте. На другой день встречаю Каму Гинкаса. Он говорит: “Что за несчастье! Только что-нибудь придумаешь про “Вишневый сад”, как тебя уже опередили”.
– Какие удивительные, одухотворенные артисты у Стрелера! Валентина Кортезе в роли Раневской. Джулия Лаццарини, играющая Варю. Многие помнят актрису в роли Ариэля.
– Крошечный пример гениальной режиссуры. Когда вы смотрите “Бурю”, первое, что вспоминаете, – летающий Ариэль. И чудную сцену, когда Просперо подставляет ладонь и на ней, как на пуанте, стоит Ариэль – Джулия Лаццарини. Но я хочу сказать о другом моменте, когда в финале Просперо дает Ариэлю свободу и жестом показывает ему (ей) – теперь ты свободен. Как вы помните, Ариэль в спектакле “Пикколо” спрыгивает со сцены и стремительно убегает в глубину зрительного зала. Чтобы придумать такую мизансцену нужно быть профессиональным режиссером. А великий режиссер совершает нечто большее. Когда Просперо делает прощальный жест, Ариэль, уже спрыгнув со сцены, на долю минуты замирает и смотрит на Просперо. Прощальным, полным любви и преданности взглядом. Кажется, он, так долго рвавшийся на волю, вдруг заколебался, нужна ли ему свобода без Просперо. Но соблазн тут же преодолен, и он улетает в эту свою вожделенную бесконечность. В спектакле эта сцена, вернее, этот момент сомнения, длится буквально считанные секунды. Можно вообще его не заметить.
– Вы рассказывали, как побывали в “Пикколо” спустя несколько лет после кончины Стрелера.
– Мы снимали в Милане программу о современном западном театре. Во главе “Пикколо” стоял Лука Ронкони. Я видел тогда несколько спектаклей. Что-то сам Ронкони ставил, что-то молодые режиссеры. Показали и “Арлекина” в двух составах. В выходной они играли дважды. Вечером играл Ферруччо Солери, а днем – преемник Солери – Энрико Бонавера, много лет ждавший, когда он получит эту роль. Солери в ту пору очень пожилой человек. Он уже физически не мог делать те трюки, которые делал сначала Марчелло Моретти, а потом он сам. Он только обозначал эти трюки, эти прыжки. Бонавера все трюки воплощал безошибочно. Но контраст был огромным. В утреннем спектакле создавалось ощущение прекрасно выполненного урока, в вечернем – живая жизнь.
– Напоследок давайте вспомним прекрасное начало Театральной Олимпиады 2001 года, наше приподнятое, восторженное настроение.
– “Арлекин, слуга двух господ” открывал Олимпиаду. Я помню, как на Театральной площади были выстроены мостки, по которым мы проходили в Малый театр, где, как всегда, играл “Пикколо”, Малый театр из Милана. Высоко над нашими головами, барабанщики, парившие в головокружительной вышине на подъемных кранах, высекали торжественную дробь. Так начиналось это неповторимое грандиозное празднество театра. Никто из видевших его, никогда не забудет тех волшебных дней.
– В финале, когда Ферруччо Солери снимал маску и мы видели его седую голову, трудно было удержаться от слез, слез растроганности и восхищения.
– Если искать что-то, что воплощает саму идею театра, то, конечно, этот спектакль.
Беседовала Екатерина ДМИТРИЕВСКАЯ
«Экран и сцена»
№ 19 за 2021 год.
