
Продолжение. Начало – см. №№ 9, 11–21
С каждым человеком случается только то, чего он очень хочет или очень боится. Этот закон непреложен и не нуждается в нашем понимании. Его достаточно знать, чтобы следить за “гигиеной умственной деятельности”, как называл это педантичный немец Томас Манн. Человек, поглощенный одной мыслью, магнитом притягивает к себе либо ответ на запрос, которым будоражит пространство, либо дополнительные примеры того, что его заботит, чтобы по аналогии найти ответ самому. Я хотела понять предательство людей ближнего круга. Не акт, а процесс, рутину: как тот, кто предаст тебя завтра, улыбается тебе сегодня. Как ты не чувствуешь, что человек, расставшись с тобой, идет доносить на тебя. Я озиралась, прикидывая, кто это делает рядом со мной. Угадать, что пишут – не составляло труда: я поддерживала “контакты с иностранцами”. Переписывалась с отъехавшими друзьями, встречалась с иностранными корреспондентами, студентами-славистами. Наконец стрелка барометра моего интереса сместилась, я стала думать о других, более достойных: знали они или не знали, кто в их кругу стукач? Знала ли Цветаева, чем занимается Родзевич? Знала ли, что Эфрон причастен к убийствам в Париже и сына Троцкого, и дипломата Игнатия Рейса? Вопросы не множились, а обрастали, как лысые ежи колючками уточнений: если знали, то что; если не знали, то как.
Сумятицу оборвал приезд давней подруги из Америки. Светлана Е. десять лет не была в Москве, а потому мы пошли навещать всех, кого она годы не видела. Так я вошла к Рите Райт, чьи переводы вывели меня в юности за границу СССР, да там и оставили в компании Сэлинджера, Воннегута и Фолк-нера. Мы попили чаю втроем, расстались на полуслове, вторую половину которого Рита готова была рассказать в другой раз. Велела звонить, и я с радостью это исполнила. Рита позволила снять их вдвоем на память. Я сделала пару снимков. Светлана уехала, пообещав прислать фото. Следом позвонила дочь Риты, Маргоша. Ей нужно было слетать в Чехословакию, а оставить маму было не с кем. Она спросила, не смогу ли я навещать маму почаще, и я с радостью согласилась. Это была явная работа магнита. Стоило Маргоше уехать, как я забежала на рынок на “Аэропорте”, купила фрукты, букетик зелени и пошла. Маленькая, хрупкая Рита была крепким орешком. Мы сидели в кухне, пили чай. Я высыпала ей ворох деталей из тридцатых годов, которые были мне не ясны. Рита слушала, склонив голову набок, и было ясно, что прислушивается она не ко мне, а к тому, что звучало в ней. Ждала, как настроится ее камертон: затаится или откликнется, распоется. Рита путалась в датах, а я не мешала ей. Она осталась одна из круга участников канувших событий. Ей перевалило за 90, и она помнила, что хотела. Не забыть, как она вспоминала, по какому случаю была последний раз в ЦДЛ.
– Чей же это был юбилей? – морщила она лоб. – Столетие Боречки? Нет. Его праздновали в прошлом году. Мариночки? Нет, это была весна. Много людей собралось, всякие теплые слова говорили, какую-то грамоту мне дали. Вот она тут.
Она встала с диванчика у окна, подошла к рамочке на стене в коридоре, пыталась прочитать, что там, не справилась. Огорченно вернулась в кухню, села, перебрала несколько имен, перечисляя тех, кто был в ЦДЛ: “Джеймс (Биллингтон, глава Библиотеки Конгресса США!) телеграмму прислал, что приехать не может”. И неожиданно вспомнила:
– А, это мое 90-летие отмечали.
Вопросов у меня было много, ответов у Риты еще больше. Она неспешно принимала решение, о чем говорить, а о чем молчать. Медленно подносила к губам ломтик сливы – я приносила крупные туманные с рынка, она их мыла маленькой щеточкой, резала на мелкие ломтики и неспешно отправляла по одному в рот. Жевала задумчиво, словно одна не только в кухне, а во всем мире, после чего поднимала на меня чистые сияющие глаза и почти радостно говорила: “Нет, про это я ничего не скажу”. Иногда добавляла утешительное “никому”, чтобы не оставалось тени сомнений, что это не из личного недоверия ко мне, а просто тайна была не ее.
Я спрашивала о людях, но больше о времени, большом историческом времени, а оно оказывалось для нее личным в каждом отдельном случае. В ту пору я слонялась по архивам и собирала все, что касалось Федора Ильина-Раскольникова. Он был яркой фигурой с массой туманных подробностей в биографии. Архив его был разворован, рассыпан по папкам жены – Ларисы Рейснер, и близких однопартийцев. Раскольников в разные годы жил в кругу разных людей, был гардемарином при царе, революционером при Ленине, дипломатом при Сталине, писал пьесы, а потому много общался с писателями, поэтами, театральными деятелями. Рита знала многих из них. Из архивных бумаг трудно было понять, кто кого любил, кто на кого доносил, как получилось, что этот, этот и этот были и остались в фаворе, а тех арестовали, а этих вовсе сразу убили. Многие имена писались через запятую списком друзей, когда на фотографиях во время застолья сидели рядом. А через несколько лет те же фото показывали, как участники застолий задолго до развязки разобрались на пары “жертва-палач”. Один участник застолий был непарный: всегда с краю – левого ли, правого, но особняком. Яков Агранов. Я потихоньку выспрашивала у Риты, кто кому кем доводился. Слушать Риту было усладой до онемения: она всех называла по именам: Севочка, Зиночка, Марина и Анечка. Фото Ахматовой висело над письменным столом. Там ААА полулежала на диване, подперев голову рукой, согнутой в локте, и словно свешивалась с дивана, всматриваясь в бумаги на письменном столе Риты. “Анечка смотрит сверху на меня, как всегда смотрела”, – говорила Рита и примерялась ко мне, показывая, на сколько выше ее была Анечка. Случались дни, когда ей было все равно, какое тысячелетие на дворе. В один из таких дней я спросила об Агранове. По архивным бумагам выходило, что он был душа ее компании, на выцветших фото всегда стоял сбоку, а в центре лепились друг к другу Лилечка, Ося, Володя.
Рита смотрела в такие дни отрешенно, косилась в окно, но была рада тому, что кто-то был рядом. Речь не обо мне, а о живом существе. Это могла быть мышь. Но стоило мне зашуршать бумагой, как она молниеносно жестом пресекала мои поползновения записывать за ней. Она взяла с меня слово молчать. Я обещала. А она слушала меня чуть боком, не слова, а интонации, не отворачиваясь от меня, а напротив – поворачиваясь так, словно намеревалась приложить ко мне ухо. Я поняла, что нужно запоминать. С нынеш-ней техникой я бы пришла с магнитофоном. В какие-то минуты Рита погружалась в свое время и забывала про меня. Она вообще видела меня сквозь пелену, нерезко. Так Хичкок снимал своих натурщиц в душе: сквозь запотевшее стекло, занавеску, пар и струи воды. Я была рядом, но само понятие “тут” размывалось, равно как и мое “Я”. Я приходила с листом бумаги, где были имена, даты и пробелы. Так как в дневниковых записях моих героев одни эпизоды были подробными и сценичными, а другие набросаны пунктиром. Я хотела соединить пунктир в непрерывную линию. Однажды рассказала Рите, как нашла у Ларисы Рейснер историю, как Ленин послал их с Федором в Афганистан, где послом был Яков Суриц, а у него служил брат Ларисы Игорь. Как Лариса сразу поняла, кто на самом деле управляет страной, и пока мужская половина послов искала пути к эмиру, она флиртовала с его гаремом. Я представляла себе сцену Ларисы Рейснер в гареме эмира Афганистана, и это было забавно. Рита улыбалась.
– Потом Лариса завоевала расположение его матери.
– Как? – живо спросила Рита.

И я с карандашом, который всегда был на столе, – в газете “Вечерняя Москва” были кроссворды, и Рита не разгадывала их, а заштриховывала квадраты, – я нарисовала ей план операции, придуманный Ларисой, когда русские узнали о готовящемся покушении на эмира. Они обратились к матери с просьбой рекомендовать сыну в последний момент сесть не в свою карету, а в карету прислуги. Когда все произошло именно так, как говорила Лариса, и первая карета попала в засаду, а эмир целехонький приехал во второй, мать впервые вышла к столу, когда принимали посланников. Велела посадить Ларису рядом с собой, и когда слуги подали ей первой ее блюдо, мать своими руками поставила его перед Ларисой. Это был жест высочайшего расположения, так как по восточной традиции на подобных приемах иногда подавали отравленные деликатесы. Эмир последовал примеру матери, и когда подали его блюдо, с поклоном передал его Федору. Рита слушала с интересом, закрашивая квадратик кроссворда, и только вскинула глаз, когда я сказала, что у меня ощущение, что Лариса не узнала о готовящемся на эмира покушении, а сама продумала и подготовила его.
– Все, казалось бы, было в лучшем виде, и вдруг они покидают Афганистан. Оставляют его англичанам, чтоб в 1979-м году снова входить в него, – сказала я. – А Лариса возвращается в Москву и появляется в салонах с этим…
– Она ушла от Федора к Радеку, – буднично сказала Рита.
– А он что, не мог там остаться один? – спросила я про Федора. – Я вообще не понимаю, зачем молодой стране советов нужен был Афганистан.
– Зачем нужен Афганистан, я не знаю, а уехали потому, что Федор сошел с ума, – сказала Рита с нотой сострадания.
– Как? – поперхнулась я. Об этом нигде не было ни слова.
– Это у него было уже не первый раз. Его отправили в санаторий в Прибалтике.
– Тогда были санатории?
– Да, – удивилась моему удивлению Рита. – А как же? Они уставали, им нужно было отдохнуть.
Не помню, назвала ли она место в Прибалтике, где бойцы революции отдыхали, но неожиданно быстро заговорила, описывая его руками в воздухе, – там было море, тут сосны, а тут стояла усадьба. В ней был огромный камин. И в кухне у метро “Аэропорт” потянуло дымком горящих поленьев. Камин топили дровами, рубили дрова герои и участники революции. Один был огромный. Рита вскинула руки к потолку и не стала примеряться ко мне, как в рассказах об Ахматовой.
– Я что-то читала у камина, – она повела плечами, чувствуя тепло. – На английском. Он подошел, посмотрел на меня, склонился пониже и решительно спросил:
– Do you speak English?
Рита исполнила произношение революционного матроса с чудовищным акцентом и засмеялась тихонько таким девичьим смехом, что стало слышно потрескивание поленьев в камине. – Он попросил меня учить его языку. Я согласилась. Как-то вечером предложил прогуляться вдоль моря. Когда вода уходила, можно было идти по твердому сырому песку, как по тротуару. Там утром собирали янтарь. Мы побрели, я что-то заставляла его повторять, какие-то глаголы. Он старательно следовал за мной. Наклонялся, как портовая лебедка пониже, чтобы слышать. На песке оставались зализы – такие языки воды. Он их переступал, а я обходила. И в какой-то момент, когда он издали, с высоты заметил воду, он совершенно спокойно, не переставая повторять, – “I do, You did”, – поднял меня, как кошку, и переставил через эту лужу.
Рита повисла в том там и тогда у рослого матроса в руках и покинула кухню.
Я сидела тихо, как мышь, и не понимала, какое это имеет отношение к эмиру и его гарему.
– Раскольников тоже был там, – сказала Рита. – Коля служил с ним на одном корабле.
Я кивнула, старательно справляясь с лицом.
– А что сталось с Колей?
– За Колю я вышла замуж, – сказала Рита и с состраданием посмотрела на меня, – как можно не понимать таких простых вещей. – А Лариса неожиданно умерла от тифа – выпила стакан сырого молока. Ей в 1926 едва исполнилось 30. Они вдвоем шли за гробом: Федор и Радек.
Ближе к возвращению Маргариты, я спросила, знали ли они – круг Риты – что Агранов, с которым они все дружили, был приставленный к ним гэпэушник.
– Ты помнишь Янечку? – радостно всплеснула руками Рита.
Я выбрала неуверенно повести в воздухе рукой, – дескать, не очень.
– Знали-не знали, – небрежно сказала она. – Во-первых, поначалу быть гэпэушником было не зазорно. Так что с Янечкой сначала не знали, потом – не понимали, а уж когда…
Она помолчала, внимательно посмотрела на меня и решительно сказала:
– Когда арестовали Севочку. Нет, позже – когда убили Зиночку… Райх – жену Мейерхольда. Не сразу, правда. Сначала Есенина. Где-то в тридцать, когда у многих уже жизни конец, – она стала примой у Севочки. Потом за “Даму с камелиями” критика вылила на Севочку ушат помоев, и Зиночка решила его защитить. Писала куда-то, громко говорила. Потом театр закрыли, а Севочку арестовали.
Рита осеклась, неожиданно встала, взяла большой телефонный аппарат, что всегда стоял подле нее, погладила его, как живую тварь, и, разматывая длинный шнур, потянула его в дальний угол комнаты.
– Тебе это слушать не надо, – сказала она аппарату. – Иди отсюда.
Вернулась в кухню, села и продолжила. – Мы отметили ее сорокалетие, и за Севочкой пришли. А недели через три после его ареста, Зиночку убили. Изрезали ножом, и она скончалась от кровопотери. Кто-то вошел с балкона. Таня, дочка ее, рассказывала, что Зиночка кричала – ей дворник сказал, но соседи так устали от ее истерик, что ни одна душа на ее крик не вышла. Дворник только в милицию и позвонил. Она еще жива была, когда они приехали. Сказала перерезанным горлом “я умираю”, и умерла. А публика, что ломилась на ее спектакли, даже не приблизилась к гробу. Никто на похороны не пришел. У них балкон на другую сторону Брюсовского выходил, деревце под ним росло, с него и забрались на балкон. Суд решил, что убил ее сосед с приятелем. Их взяли, но Лидочка – прислуга Зины – прекрасно видела двух мужчин – вышли-то они через дверь! – и соседа бы она узнала. Она недоумевала, почему ее на допросах спрашивают, могла бы она узнать убийц, а когда она отвечает “да”, – бьют. Аля рассказывала – Лида в одной камере с Алей Марининой была.
– А что Агранов? – попробовала напомнить я.
– Я про него и говорю, – кивнула Рита. – Убили Зиночку, мальчика соседа расстреляли, квартиру поделили на две – в одну Берия свою секретаршу поселил, вторую – своему шоферу отдал. А Янечка приехал в Переделкино со своей новой пассией, и у той на плечах была Зиночкина горжетка. Второй такой на Москве не было. И я прекрасно помню, как Янечка сел к столу с этой… и все замолчали. Наступила долгая мхатовская пауза. Мы как-то знали, что был неписаный закон: если ты брал человека, ты мог себе взять все, что приглянулось.
Вопросов у меня больше не было. А Рита неожиданно улыбнулась и сказала:
– Думаю, тогда и родилась замечательная частушка.
И она тихонько запела, отбивая ритм по краю стола.
Прямо в окно от фонарика
Падают света пучки.
Жду я свово комиссарика
Из спецотдела ЧеКи.
Все спекулянты столичные
Очень со мной хороши,
Дорют подарки отличные,
Просют: “Прими от души”
Пишут записочки: “Милая,
Штой-то не сплю по ночам.
Мне Рабинович фамилия,
Нету ли ордера там?
Вышел на обыск он нонеча
К очень богатым жидам.
Думаю, пара червончиков
Нынче очистится нам…
Это был первый и единственный случай, когда Рита не просто позволила мне записать все, а старательно продиктовала слова. А про горжетку просила никому не говорить. Я пообещала.
Для тех, кто не знает имени Агранова, – две детали: это он подписал ордер на арест Мандельштама и он приговорил к расстрелу Гумилева. Один из ведущих организаторов репрессий 1920-1930-х годов, “курировал” творческую интеллигенцию. В 1938 его расстреляли.
Пунктир мой не стал непрерывной прямой. Я не смогла соединить то, что органично уживалось в московской кухне: любовь к Анечке и частушка о Янечке. И не смогу. Так и отойду в мир иной, как инвалид – “человек с ограниченными возможностями”.
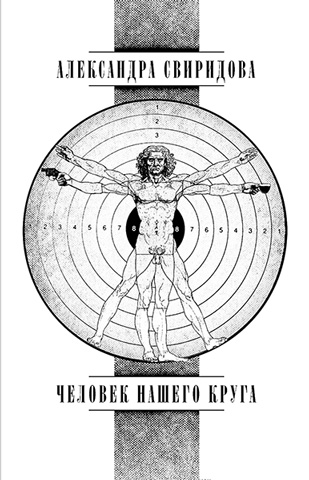
Выпытать главное мне не удалось. Я хотела узнать про Лилю. В ту пору в архивах нашлось ее удостоверение сотрудника ГПУ за номером 17, если не ошибаюсь. Но про Лилю Рита отвечала твердо: “Никогда”.
– Скажите хотя бы одно… – начала я в очередной раз.
– Что?
– Лиля действительно покончила с собой?
Рита позвенела ложечкой о край чашки, подумала и сказала, – Она позвонила мне и спросила, могу ли я побыть с ней у телефона. Я села поудобнее и слушала ее, не перебивая. Лилечка изредка спрашивала, тут ли я. И тогда я что-то говорила. И снова слушала. Она рассказала мне все, и я была с ней до последнего. Пока там уже кто-то не пришел и не положил трубку.
– Она что-нибудь рассказала про смерть Маяковского? Я не верю, что это было самоубийство.
– Она рассказала все, – повторила Рита твердо. – Я дала ей слово, что это умрет со мной.
Дальше похолодало, вернулась из Чехии Маргоша. Потом выпал снег, и Рита слегла.
Сначала просто ленилась вставать, как говорила Маргоша, потом не хотела готовить, потом есть. Потом кончился 1988 год. В предновогоднюю ночь остановилось сердце Риты Райт и Юлика Даниэля, а в новогоднюю за столом под бой курантов умер мой друг и режиссер, с которым я сделала свои мультфильмы, – Борис Аблынин. Я была в ступоре. Хоронили всех троих в один день. Я простилась с Борисом на студии, а потом помчалась на Сокол к Ирине Уваровой-Даниэль. Маргоша хоронила Риту сама. На девятый день я пришла на поминки и принесла фото Риты, на которых она была со Светланой Е., прилетавшей из Америки. За столом сидели трое-четверо друзей Маргоши. Ахматова со стены равнодушно смотрела на них. Она никого из них не знала. Маргоша вертела фото в руках и горестно качала головой, – Мама говорила, что Света приезжала, а я не поверила. Я уверяла ее, что ей померещилось, что она ее с кем-то спутала. А оказывается, это была правда.
– Как она отошла? – спросила я.
– Легко, – порывисто откликнулась Маргоша. – Проснулась утром, солнце падало вот отсюда в щель между шторами. Попросила пить, я дала ей. Спросила, не хочет ли она творожка. Она улыбнулась, сказала, что нет. Что ей снилось лето, солнце, только что кончился дождь, и они с Боречкой босиком бежали по лужам. Там – в Переделкино. Сказала, что хочет поскорее вернуться к Боречке. Она закрыла глаза и вернулась.
Все за столом молчали. Я отказалась садиться. Потопталась и пошла к выходу. Маргоша неожиданно выбежала на лестничную клетку, догнала меня, обогнала, встала ниже на одну ступеньку и так оттуда снизу заглянула в лицо, словно пытаясь прочитать, верю я ей или нет, и сказала:
– Когда мы с Алей были маленькими, мы постоянно жаловались друг другу на наших матерей. Как состязались: кому из нас было хуже. И только сейчас я поняла, что и Марина Але, и мама мне дали всё. Понимаете, абсолютно всё, что могли. У них просто больше не было. Почему, почему это стало понятно только сейчас?!
Я молчала, как дерево. Как Коля Ковалев у камина, я возвышалась над Маргошей, и мне нечего было ей сказать. Я неуклюже склонилась к ней, чтобы обнять. И она порывисто поднялась на ступеньку выше. Так мы постояли, обнявшись. Простились, обещая друг другу звонить, и больше не виделись. По телефону она рассказывала о книге, которую переводила, о собаках.
Что сталось с их архивом – Риты, Маргоши, даже не хочу думать. Допустить, что Рита записала все, в чем исповедалась ей Лиля, не могу.
Весной 1993-го я уехала в край героев, с которыми познакомила меня Рита. Годы минули, пока я села писать в Нью-Йорке не поденщину, а то, что меня мучило. Вернулась к вопросу “знали-не знали” и принялась выписывать разговоры с Ритой. Большого труда стоило нарушить данное ей слово молчать. Теперь я взывала не к ней, а к себе: неужели я унесу эти тайны в могилу? Я решила предать огласке горжетку. Из цепи разных чужих историй о предательствах сложился текст “Человек нашего круга”. Любимая Майя Туровская прочла и, как всегда, принялась сбивать пафос, который паром валил у меня от страшных сцен.
– Все было гораздо обыденнее. Вы про это пишете, а я все это жила, – строго сказала Майя. – Изо дня в день.
– Что не так? – я готова была принять любые замечания.
– Ну, прежде всего, люди нашего с вами круга убивали не раз и не два, – ответила она ровным голосом. И принялась дальше развенчивать другие загадочные для меня повороты сюжета. Об актрисе, которая у меня вышла живой из особняка Лаврентия Берии, отказав ему, Майя сказала, – Ну, она не одна оттуда вышла живая. Хорошо нам известная Тамара М. многократно выходила. Была еще обыкновенная любовница… А о Зинаиде Райх я писала в моей книге о Бабановой. Когда Райх умерла, в Москве был очень прочный слух, что ее убили и выкололи ей глаза, потому что было поверье, что в глазах убитого отражается убийца. Убил ее знакомый моего мужа Бори, который учился на юрфаке МГУ, сын известного дирижера Головина Виталька. Второй был его приятель. Их посадили. Потом я встретилась с сыном Зинаиды Николаевны – сыном ее и Есенина. Он хотел, чтобы я о ней написала книгу, очень просил. Но я не стала, так как я ее не любила. Сын говорил, что ее ранили, и домработницу ранили, и обеих отвезли в больницу, и никаких выколотых глаз не было, – сказал мне сын. Это московская легенда. А писать я не стала потому, что Зинаида Николаевна была никакая актриса. Думаю, что она всегда любила Есенина… Был еще Арнштам – он играл на рояле у Мейерхольда, и она его клеила. А Мейерхольд был гений – он для Райх придумал качели, так как бегать она не могла, хоть и преподавала биомеханику. Она смертельно завидовала Бабановой и просто выгнала ее из театра. Советски она была очень ангажирована. А когда взяли Мейерхольда, она, якобы, написала письмо, где сказала все, что она думала. Якобы за это ее и убили… Когда Мейерхольда арестовывали в Питере, Вера, жена Рошаля, видела это своими глазами. Рано утром они вышли с подругой из дома и видели, как на улице брали Мейерхольда. Точнее, двоих: взяли его и Харджиева. Вместе.
Я долго правила повесть, добиваясь главного, что было у Майи в цене: “Текст не должен быть блестящим. В нем должна быть благородная тусклость”.
Хочется думать, что у меня получилось.
Александра СВИРИДОВА
«Экран и сцена»
№ 22 за 2020 год.
