
Улыбка Гамлета.
Фильм, снятый Бруком в 1979 году по книге Георгия Гурджиева «Встречи с замечательными людьми» начинается так: в горной долине южного Кавказа перед толпой крестьян деревенские певцы и музыканты устраивают состязание по обычаю, уходящему в незапамятные времена. Победит тот из них, на чью мелодию отзовутся горы, кто сможет вызвать из глубин голос вселенной, тот, чье искусство соединится с божественным миропорядком и станет его частью. Один за другим музыканты вступают в круг и показывают свое искусство. Горы хранят равнодушное молчание. Тогда в круг выходит старик и надтреснутым голосом заводит песню. Его соперники владеют своими голосами и инструментами ничуть не хуже него, но в песне старика скрыта какая-то тайна, которая заставляет горы пробудиться, и они отвечают – сперва чуть слышно, словно ветер вдруг поднялся в долине, затем все звучнее, и, наконец голоса гор сливаются в мощном потоке странных и неотразимо прекрасных звуков.
Можно сказать, что долгая жизнь Питера Брука в искусстве была отдана попыткам открыть эту тайну, найти философский камень, который позволил бы создать театр, способный проникнуть в сокровенную суть бытия, передавать через игру актеров божественную игру всего сущего. Брук не переставал говорить о святости истинного театра, в которой остро нуждается современное человечество: «ведь святость, – писал Брук, – не виновата в том, что обыватели превратили ее в орудие устрашения непослушных детей». Под этими словами могло бы стоять имя Станиславского.
Режиссерские эксперименты Брука 60–80-х годов, при всем их бесконечном многообразии и поразительной формальной новизне были подчинены единой нравственной сверхзадаче – найти путь к театральной всемирности, способной объединить человечество. В дерзновенных опытах Брука рождалось искусство, стремящееся вместить в свои пределы всю человеческую вселенную, соединить, свести Запад и Восток, создать эстетический прообраз чаемого всечеловеческого сообщества будущих столетий. Утопические мечтания в этом искусстве сливались с мифопоэтическими образами первоначального единства человечества «до вавилонского столпотворения».
Питер Брук представляет собой рожденный нашим веком тип художественной личности, принадлежащей одновременно всему миру, вобравшей в свое искусство традиции многих культур, но не замкнутой в пределы ни одной из них. Он – гражданин вселенной, космополит в точном и прекраснейшем смысле этого слова, которое вызывает в нашей памяти столь пугающие ассоциации, в чем, без сомнения, великая идея всечеловеческого единства нимало не виновата.
Брук давно признан одним из духовных вождей современной культуры, а его искусство – от «Короля Лира» и «Марата-Сада», от блистательного «Сна в летнюю ночь», до «Махабхараты», грандиозного зрелища, полного трагической символики и неотразимой красоты, – стало классикой театра ХХ столетия.
Премьера «Махабхараты» была сыграна в 1985 году на Авиньонском фестивале, в огромном пустом пространстве старого карьера, среди камней и песка, на почве, иссушенной зноем и растрескавшейся. В великой древнеиндийской поэме о богах и героях режиссер открывал смысл вечный и глубоко современный. Актеры Брука – англичане, поляки, африканцы, японцы – играли историю участи человечества, стоящего на пороге катастрофы и ищущего спасения. Трехчастная театральная эпопея, в действие которой были включены первостихии природы – вода, земля, огонь, – обращалась к главным ритуалам человеческой жизни – рождению, любви, войны, смерти. Два враждующих рода – пандавы и кауравы, символ человечества, одержимого инстинктом взаимоистребления, встречались в кровавой схватке, в которой не было победителей. В последней части трилогии перед зрителями представало дымящееся, покрытое телами поле сражения, образ опустошенной земли, образ истории, близящейся к своему концу. Но финал представления нес в себе надежду, рожденную по ту сторону отчаяния – упование на еще не истребленную в мире силу милосердия – и на целительную силу искусства, несущего в себе нравственный опыт человечества. «Спасение не вне нас, оно в нас самих» – так режиссер формулировал философию своей грандиозной театральной фрески.
В последние годы характер театральных опытов Брука явственно изменился. Создатель изысканных и смелых театральных композиций, невиданных сценических форм, отважных экспериментов с театральным пространством, он начал тяготеть к искусству тихому и аскетически сдержанному, сосредоточенному на человечески содержательном и нравственно существенном.
Сокровенная суть его творчества, то, что он полагал конечной целью своих театральных исканий, оставались прежними, изменились пути движения к этой цели. В произведениях Брука стали отчетливо проступать черты глубокой, не выставляемой напоказ, религиозности. Его давний интерес к мистическому учению Гурджиева стал теперь многое определять в его мировоззрении и театральных идеях.
Перемены в искусстве Брука готовились исподволь. Их предвестие можно было почувствовать в «Вишневом саде», поставленном в начале 80-х годов в Париже и повторенный позже в Соединенных Штатах, на этот раз в англоязычной версии. Спектакль, показанный в Москве, поразил наиболее чутких зрителей своей совершенной простотой. «Формы у спектакля как будто бы не было, – вспоминал Лев Додин, – Брук все меньше и меньше заботился о форме, блестящим мастером которой он был с юности. Вместо нее зримым становилось нечто незримое, оно пульсировало в существовании этих, непохожих на актеров, людей. И чем меньше они были похожи на актеров, тем сильнее ощущалось это биение внутренней жизни… От великих режиссеров ждут великих сотрясений. Не потрясений – для них душа оказывается не готовой, а именно сотрясений. Здесь же была абсолютная простота, которая и есть по сути дела самая большая ересь».
Можно сказать, что Брук сознательно отошел в сторону от шумного и пестрого процесса театрального развития постмодернистской эпохи и замкнулся в добровольном одиночестве, рискуя вызвать – и вызывая – упреки в сентиментальном морализме и старомодности (Примерно в том же упрекали Станиславского на склоне его жизни).
Поворот, который произошел в мироощущении и творчестве Брука последних лет, принадлежит к историческому феномену «позднего искусства»: есть некая общность в способе восприятия жизни и эстетического мышления художников, вступивших в заключительную пору жизни. Как правило, они тяготеют к нравственно-религиозному проповедничеству и к «неслыханной простоте» формы.
В 2000 году, через 45 лет после первого своего «Гамлета», так много значившего для русского театра первых оттепельных лет, Питер Брук вновь поставил главную пьесу человечества. На сцене парижского театра «Буфф дю Нор» восемь актеров играют существенно сокращенный текст шекспировской трагедии. Спектакль носит название «Трагедия Гамлета» и почти полностью сосредоточен на судьбе центрального персонажа пьесы.
Сцена театра почти пуста: красноватый ковер да разбросанные по нему разноцветные подушки – вот и все «оформление».
Первые слова трагедии – «Кто здесь?» у Шекспира произносит, как известно, стражник Бернардо.
В бруковском «Гамлете» первая строка – не традиционный оклик часового, но одинокий крик, посланный в пространство, вопрошание космоса, не рассчитанное на ответ. Вопрос, вложенный режиссером в уста Горацио, обращен в бесконечность вселенной и одновременно к чему-то, что невидимо находится совсем рядом, «здесь». Слова Гертруды из 3 акта – «Зачем глаза вперяешь в пустоту и неподвижный воздух вопрошаешь?» – тут можно обратить к другу Гамлета. Он появляется на сцене, неслышно ступая, робко озираясь, напряженно вглядываясь вдаль, всем существом, самой своей кожей ощущая растворенное в дрожащем сумрачном воздухе присутствие незримого.
В ответ на его «Кто здесь?» за сценой возникает гудящий протяжный звук. Он возвещает о приходе гостя из иных миров. Призрак, крепко сложенный человек в длинной шинели, медленно, тяжело ступая, идет прямо на Горацио. Между ними возникает, физически ощущается какое-то сгущенное пространство, поле действия могущественных силовых линий, невидимая воздушная подушка, заставляющая гамлетова друга пятиться, вытесняющая, выталкивающая его со сцены. Отступая, Горацио отчаянно кричит – Говори! В ответ не слышно ни слова. Дух не молчит высокомерно в ответ на смятенные вопросы Горацио. Он хочет, чтобы его услышали. Он пытается что-то сказать. Его губы шевелятся. Но речь его беззвучна. Может быть, он не в силах говорить, а, может быть, ему запрещено открывать свою тайну – да и не всем дано ей внять.
Чтобы услышать весть из «страны, откуда нет пришельцев», нужен Гамлет, и только он. Он один среди всех людей наделен особым слухом, даром поэтов и пророков, коим внятны и «неба содроганье, и гад морских подводный ход», – потому и избран, на свое несчастье, стать посредником между мирами горним и дольним, сделаться орудием высших сил, – тем, что в былые времена называли Gladius Dei, меч Господень.
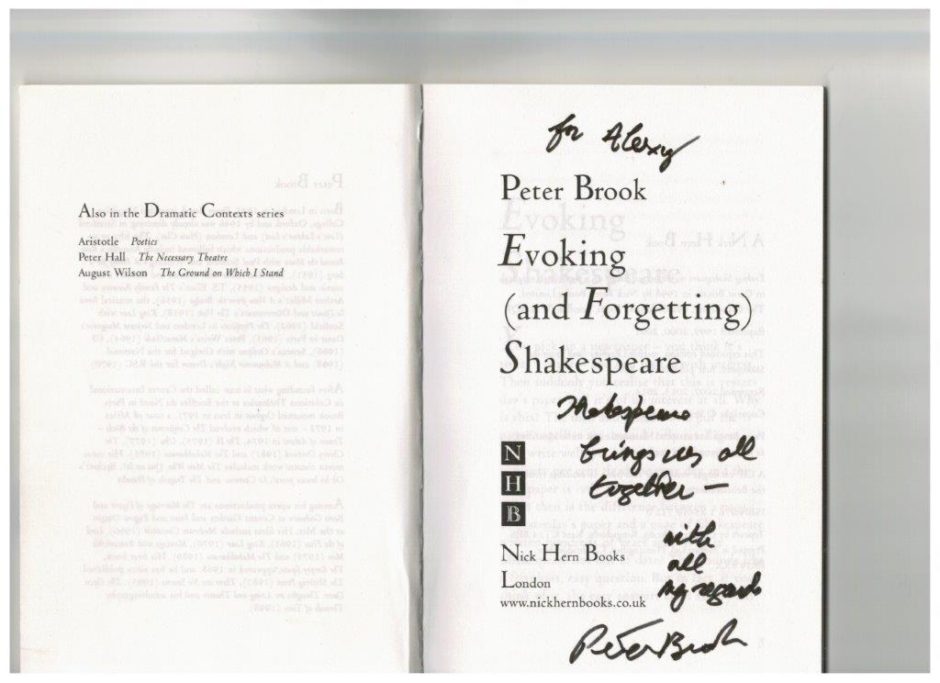
Главную роль Брук дал чернокожему англичанину Адриану Лестеру, которого театральная Москва запомнила в шекспировской комедии «Как вам это понравится», показанной на гастролях лондонской труппы «Чик бай джаул». Он сыграл Розалинду. Нельзя было лучше сыграть женщину, чем это сделал черный атлет Лестер, сумевший безукоризненно передать гибкость женской пластики и женской психики.
Роль Гамлета выстроена у Лестера как серия мгновенных изменчивых импульсов, стремительных вспышек нервной энергии, немедленно отзывающейся на малейшие колебания пространств – как близкого, так и бесконечно удаленного. У этого Гамлета совершенный воспринимающий аппарат души, безошибочно чуткой к малейшей фальши, – и гибкое тело боксера, раскованность современного студента – и смертельно опасная грация черной пантеры, то, что у Блейка названо «пугающей соразмерностью», fearful symmetry.
Главный секрет Гамлета, как его истолковал Брук и сыграл Лестер, в том, что шекспировский герой артистичен до кончиков ногтей. Кажется, он рожден не для престола, а для сцены и чуть ли не главное, что привлекает его в бремени, которое возложено на него Духом, – возможность сыграть роль мстителя из старинной трагедии.
Как известно, образ «мира-театра» в пьесе значит не меньше, чем образ «мира-тюрьмы». В философии бруковского «Гамлета» он делается определяющим. «Театром» Гамлет-Лестер пытается одолеть, переиграть «тюрьму» – не только «Данию-тюрьму», но более всего – узилище земной жизни. Он хочет стать не «Мечом Господним», а «Божьим Скоморохом».
Этот Гамлет одержим манией театральной игры – рискованной и прельстительной игры на краю небытия, игры со смертью – он и ее тщится переиграть, победить, сделав предметом театральной забавы. На кладбище он устраивает целое представление с черепом Йорика. Насадив череп на палку, он пускается с ним в разговоры, обращаясь к мертвому шуту с глубокомысленными рассуждениями о бренности бытия и отвечая себе пискливым голоском балаганной персоны. Временами его игра начинает отдавать кощунством. В сцене с Гертрудой он разыгрывает чревовещателя с говорящей куклой – трупом Полония, без всяких церемоний ворочая мертвеца с бока на бок. Срамя и осмеивая Старуху-смерть, Скоморох сражается не столько с ней, сколько со своим страхом перед небытием, пытаясь заклясть, заговорить страх игрой.
Если Гамлет безумен, то это особый род безумия – греховное и священное помешательство на театре.
Понятно, что в «Гамлета» Брук вкладывает кое-что из своей театральной биографии и сегодняшних идей. В каком-то смысле он поставил спектакль о судьбе и призвании театра – театра вообще и театра своего собственного. Критик Майкл Биллингтон признался, что его «поразило, в какой степени Гамлет Лестера со своими бесконечными вопросами, эмоциональными парадоксами, со своим восторгом перед театром, становится средством передать то, чем одержим сам Брук».
Критерий выбора театрального стиля у Питера Брука и у его Гамлета до крайности прост: хорош тот театр, который способен делать мир лучше. Звучит по нынешним временам наивно, но Бруку не страшно показаться наивным.
Принцу датскому ясно, что Клавдия всякими там театральными стилизациями не пронять. Что тут действительно нужно – просто и жестко, без эстетических вычур, только отвлекающих от страшноватой сути, рассказать королю его собственную историю. Представление, поставленное режиссером Гамлетом, начинается в глубине подмостков, а завершается прямо у ног короля. Линия рампы, остраняющая и смягчающая, сломана. Столичные актеры разыгрывают сцену убийства, подробно и страшно медленно, как в съемке рапидом, демонстрируя технику и все атрибуты отравления – смертельная жидкость из флакона долго втекает в ухо спящего. Клавдий, мужчина крепкий и не робкого десятка, убегает в смятении и страхе, его крик «Огня!» – истошный вопль паники.
Театр сделал свою работу, исполнил призвание. Король сам не может понять, что с ним вдруг сталось, никогда ничего подобного он не испытывал. Молясь, он с каким-то тяжелым недоумением вслушивается в неясно шевелящуюся на дне души боль, с этого часа он – другой, торжество победителя, сладость властвования теперь в нем отравлены – и все это проделали с ним какие-то там лицедеи. Поэтому-то шпага Гамлета, бесшумно подобравшаяся к царскому затылку, берет отсрочку. Никакая красота, конечно, мира не спасет и убийц не исправит, неприятные воспоминания об «Убийстве Гонзаго» нисколько не помешают Клавдию готовить расправу над Гамлетом и заниматься прочими государственными делами, но от душевной смуты ему больше не избавиться. Может быть, по этой самой причине в финале, когда Гамлет, не торопясь, легкими упругими шагами надвигается на него с наставленным оружием, короля вдруг оставляет решимость спастись, желание выжить. На него словно нападает столбняк. Клавдий замирает на месте, как кролик перед удавом, не в силах отвести взора – даже не от шпаги, но от глаз черного принца.
Конечно, Гамлет, как положено ему по сюжету, хочет с помощью театра разоблачить злодея. Но не меньше его занимает сам по себе эксперимент с природой театра, проверка границ его возможностей. Понятно, что он должен убедиться в том, на самом ли деле Клавдий – братоубийца и, стало быть, Дух не дьявольское прельщенье. Но одновременно он, человек с театральным даром, должен выяснить, в силах ли искусство сцены время от времени напоминать человеку, что он – «краса вселенной и венец всего живущего»
Брук менее всего простодушен, но идею театрального мессианства он исповедует давно и твердо, избегая при этом сентиментальных проповедей и громких манифестов. Вопреки разрушительным играм постмодернистской эпохи, он, не боясь прослыть старомодным, продолжает верить в театр как инструмент общения с Богом, носитель высших тайн бытия. В сценическом представлении он видит и высокую забаву, и акт священнодействия, умея внушить это свое видение актерам и публике.
Любители современной терминологии назовут спектакль Буфф дю Нор примером метатеатра. Но «Гамлет» Брука – не только о театре. Он еще и о боге, и о смерти, о том, как эти три силы – Театр, Бог и Смерть – между собой соотносятся, как они сходятся в одном человеке, принце датском.
В конце пути Гамлета покидал мучивший его страх небытия. Теперь он воспринимал неизбежность со спокойствием почти юмористическим – Let be, «пусть будет». Вместе с покоем ему был дарован свет, нетерпеливым предчувствием которого он вдруг исполнялся. Кажется, он уже увидел тот длинный темный коридор, в конце которого – ослепительное сияние, о чем рассказывали люди, пережившие клиническую смерть. Его охватывало то чувство «странной легкости бытия», о котором говорил Лев Толстой, описывая смерть Андрея Болконского.
Этой последней легкостью проникнут весь мир бруковского «Гамлета», вся его сценическая лексика. Предметы словно лишались веса, люди были будто освобождены от тяжести собственного тела. Критики были склонны объяснять эту графику невесомости уроками техники старинного японского театра, которой, как известно, учат в лаборатории Брука. Но для режиссера дело заключалось скорее в ином: финальная сцена, миг соединения Гамлета со «страной, откуда ни один не возвращался», бросал обратный отблеск на весь, от начала до конца, спектакль, на его театральную материю и его смысл.
Перед самым концом на устах Гамлета – Лестера появлялась таинственная улыбка и навсегда застывала на его уже мертвом лице.
Улыбка Гамлета отражала предвкушение света, в царство которого он вступал. Уверенным жестом он отстранял Горацио, горестно хлопотавшего возле него, и отрезал себя от мира.
Вместе с мертвым принцем на подмостках лежали все умершие – не только те, кому следовало лежать там по тексту пьесы, но и все прочие – Полоний, Офелия и даже Гильденстерн с Розенкранцем. Финал с Фортинбрасом в спектакле Брука отсутствовал. Миссию норвежского принца, когда-то истолкованного Крэгом как символ очистительного ангельского начала, как воплощение катарсиса, у Брука исполнял ослепительный свет, который рождался в глубине зрительного зала, медленно заливая подмостки. Снова, как в начале, слышался странный тонкий пронзительный звук. Мертвые один за другим вставали. Среди них, тревожно вглядываясь в пустоту, стоял Горацио. Он снова вопрошал – вселенную, себя, нас: «Кто здесь?» Он всеми силами души вслушивался в пространство, гулкое от присутствия неведомого. Ответом ему было молчание, молчание мира – и молчание оцепеневшего зала, которое после долгой, до предела насыщенной паузы взрывалось аплодисментами.
Мертвецы, восставшие от сна смерти, становились актерами, вышедшими на поклоны.
«Кто здесь?». Последние слова спектакля возвращали к его началу. Но на этот раз в вопросе гамлетова друга, кроме страха и тревоги, слышалось нечто вроде неясной надежды.
«Дальнейшее – молчанье». Однако, молчание еще не означает пустоты, абсолютного отсутствия. Боги, правящие миром трагедии, способны быть грозными и мстительными. Их воля может быть неисповедима. Но небеса трагедии не могут быть пусты. Они светятся высшим смыслом, даже когда этот смысл скрыт от людей. Гамлет не может знать, «какие сны приснятся в смертном сне». Но именно поэтому он не вправе отчаиваться, предаваясь утешительным соблазнам безверия. Произведения позднего Брука этим соблазнам твердо противостоят. Именно здесь нужно искать источник ясного ровного света, который они излучали.
Алексей БАРТОШЕВИЧ. Статья из сборника Государственного института искусствознания «Западное искусство. XX век: Образы времени и язык искусства». М., 2003.
