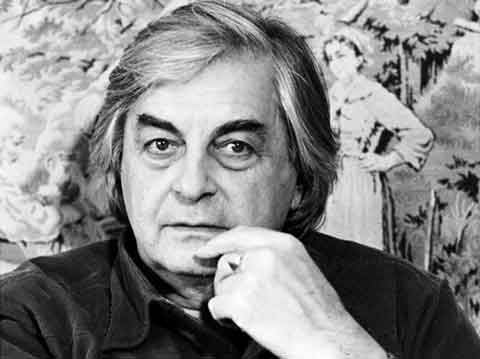 Начинаем серию публикаций к 100-летию великого режиссера.
Начинаем серию публикаций к 100-летию великого режиссера.
Существует легенда, что Любимов начал свое дело с группой единомышленников, спаянных годами совместного ученичества. Что атмосфера Таганки, социальное и творческое поведение, особенный способ игры – все это было найдено уже в школе, и оставалось только превратить найденное в устойчивую сценическую реальность.
На самом деле знак равенства между курсом Щукинского училища и Театром на Таганке был поставлен слишком поспешно. Да, бывшие студенты стали ядром нового коллектива, они внесли в него свой генетический код, но, тем не менее, труппа, которой предстояло стать легендарной Таганкой, возникала иначе и постепенно.
В сценическую жизнь тех лет Любимов вклинился внезапно, неожидаемо. Театр шестидесятников, казалось, вполне проявился в главных своих тенденциях. “Современник”, Большой драматический, Анатолий Эфрос (в Центральном детском театре, в “Ленкоме” и, наконец, на Малой Бронной) уже определили и выразили театральные и общественные идеи нового послекультового времени. Период энергичного обновления постепенно уступал место периоду осмысления и раз-вития. Никто уже не ждал кардинальных перемен. И вдруг! Так и хочется вспомнить черномырдинское: “Никогда не было и вот опять…”. “Добрый человек из Сезуана”, сыгранный студентами, словно открыл тогда вторую сторону луны. Условный театр, казалось бы, уничтоженный, насильственно забытый во времена культа, внезапно обнаружил свою поразительную жизнеспособность. Шок в управляющей театрами среде был так велик, что Любимову, до той поры никак себя режиссерски не проявившему, в одночасье дали театр. Не просто помещение, а именно настоящий театр, так сказать, на рабочем ходу. Событие для тех времен практически нереальное.
Это важный момент: Таганка возникла не на пустом месте. Любимову было передано не просто здание, но театр, у которого уже имелись своя история, свое место в театральной ситуации Москвы, своя репутация и свои зрители. Было у него и название: Театр драмы и комедии. Любимову пришлось это название сохранить, прибавилось только “на Таганке”, чем и было обозначено наступление нового этапа, отсчет времени начался как бы с нуля. Естественно, у старого театра была своя постоянная труппа. Она не могла быть просто разогнана: ее интересы охранялись тогдашними законами о труде. Любимову предстояло достаточно трудное, конфликтное дело: отбор, оттеснение, увольнения. Разумеется, часть прежней труппы необходимо было оставить. Любимов, опытный театральный политик (какое-то время был заведующим труппой Театра имени Вахтангова, а это хорошая школа закулисной борьбы), понимал, что в студийном ядре нет достаточных сил для нового театра. Ему нужны актеры разных возрастных групп, разных амплуа. Как человек, проведший всю свою жизнь в театре, он знал, что первый успех на экзамене еще не гарантия блестящего артистического будущего. Он не раз наблюдал, как безжалостно реальный театр перетасовывает молодых актеров: вчерашних гениев вдруг превращает в ничто и вдруг возносит того, кто все годы учения прозябал на второстепенных ролях. Молодому театру нужен был подстраховывающий фундамент, опытные актеры, рядом с которыми начинающим будет легче войти в профессию.
Абсолютным единомыслием приходилось на первых порах жертвовать ради устойчивости нового коллектива, а потом добиваться его снова, объединять прежних хозяев с новичками, преодолевать естественно возникающее противостояние. Не обошлось и без подлинных драм. Одна из ведущих актрис прежней труппы непременно хотела остаться и непременно играть. Ее по-настоящему увлек новый театр. Но Любимов не видел ее в своем театре, она ему была не нужна. А бывшая прима соглашалась на эпизоды, чуть ли не в судебном порядке требовала ролей, хотя могла занять достойное место в каком-то другом московском театре. Ее любили зрители, к ней была доброжелательна пресса. Увы. На Таганке ее судьба так и не сложилась. Через какое-то время, поняв тщетность усилий остаться с Любимовым, она отступила, ушла. Но некоторые из старой труппы сумели войти в самое ядро обновившегося театра. Они играли много и оказались даже более “таганскими”, чем иные из учеников. Вот только два примера: Готлиб Ронинсон и Вениамин Смехов. Оба достались Любимову “по наследству”. Как и режиссер Петр Фоменко, как и заведующая литературной частью Элла Петровна Левина, державшая потом всю столичную критику в своих ежовых рукавицах.
Итак, старая труппа влилась в любимовский курс или, наоборот, курс влился в старую труппу. Но и этих ингредиентов для коктейля оказалось мало. С огромной энергией Любимов сразу же начал набирать актеров со стороны. Совсем молодых, лишь недавно закончивших ученье в театральных школах Москвы, и таких, кто уже успел потолкаться среди кулис. Желающих работать на Таганке оказалось много. Театр, еще практически не начавшийся, уже притягивал к себе, завораживал. Вокруг него начинали складываться легенды, возникали дразнящие слухи. Ведь появление нового коллектива было событием в театральной жизни тех лет. А “Добрый человек из Сезуана” завораживал какой-то особенной, агрессивной и радостной энергией. Новой художественной осмысленностью.
При отборе претендентов Юрий Любимов проявил интуицию, которая в дальнейшем не раз будет подсказывать ему неожиданные, но точные решения. Так, через дополнительный прием, в театр попали Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Виталий Шаповалов, Леонид Филатов, Нина Шацкая, Татьяна Жукова, Иван Дыховичный, Николай Губенко, Александр Калягин, Станислав Любшин, Алексей Эйбоженко – воспитанные в традициях разных актерских школ, с любимовским курсом вовсе не связанные.
Некоторые из них прижились сразу и остались на Таганке если не навсегда, то, во всяком случае, до трагического раскола театра. Иные же, проработав какое-то время, уходили, решив, что большего сумеют добиться в одиночку, без риска, всегда сопровождающего любое начало.
Ушел в Театр имени Ермоловой Калягин. Ушел Любшин. И, наверное, сделали правильный выбор: их судьбы вне Таганки сложились блистательно. Покинул Любимова и Эйбоженко. И тоже вряд ли об этом пожалел. Уходил, возвращался и вновь уходил Губенко.
Впрочем, и курс Любимова оказался далеко не единым, не все захотели пойти за Мастером в опасную неизвестность. Кое-кто предпочел ангажемент в стабильном, уже вполне сложившемся театре. Особенно ощутимой была потеря Алексея Кузнецова, исполнителя роли Водоноса в “Добром человеке”. Именно на него, как и на Зинаиду Славину, все обратили внимание. Казалось, именно он станет премьером молодой труппы. Но как самый замеченный среди студентов Кузнецов получил приглашение в Театр имени Вахтангова и принял его. Это, пожалуй, был первый предостерегающий знак, напоминавший, что человек есть человек, и он обладает свободой выбора.
Словом, вопреки всеобщему мнению об изначальном единстве Таганки, у Любимова образовался коллектив опасно пестрый. Его составляли люди разные по исполнительским школам, жизненным целям, нравственным качествам. По типу не только творческой, но шире – человеческой личности. Последнее не менее важно. Потому что от типа личности, определяющего способность человека либо отдаться целиком общему делу, либо – существовать независимо (насколько это вообще доступно в театральном искусстве), самому определять свою творческую судьбу в таком театре, каким становилась Таганка, зависело многое.
Потому-то так сложна и противоречива история любого театрального дела, строившегося на принципе единомыслия. Тут с самого начала действуют силы отталкивания, а не одного лишь притяжения. И хотя идея студийности – одна из наиболее живых и плодотворных идей, пришедших в сценическую практику вместе с новым положением в ней режиссуры, так блистательно себя оправдавшая в “Современнике”, тем не менее, таила опасность грядущего разлада. И позднейшая история Театра на Таганке, трагический раскол труппы, изменение отношений между Мастером и его учениками скорее закономерность. Большинство коллективов в нашей стране, ориентированных на “свой” театр (а на рубеже 50-60-х годов их было много, даже в провинции воцарился культ “единомыслия”), просуществовали в таком качестве лишь несколько сезонов.
Таганка держалась дольше других. Когда в 1974 году театр праздновал первый юбилей, стенка из именных кирпичей (“кирпичами” называли основателей), выложенная в фойе, была хорошо сцементирована. Правда, в стоящее тут же ведро были выброшены и другие, тоже именные, “отвалившиеся” кирпичи. Но их было совсем немного.
Итак, идиллически удобной ситуации для начала у Любимова не было.
И в том, как быстро он сумел объединить коллектив, сказалась (как скажется и в спектаклях) самая суть его дарования – синтез, совершенно бесстрашный, обладающий огромной энергией, соединяющий практически любое с любым, добивающийся единства там, где властвуют противоположности. И потому уже на премьере “Доброго человека из Сезуана”, которой открывался Театр на Таганке в апреле 1964 года, рядом с изначально своими играли и пришлые, но играли так, будто бы они все были с того знаменитого курса. Единство спектакля не было нарушено, общий язык отыскался быстро, легко и надежно.
Тут важно понять, что же лежало в основе, каков был рецепт “цемента”?
В самые первые годы существования Таганки в сознании многих труппа Юрия Любимова воспринималась как труппа политического театра, а ее поразительное единство представлялось единством в общей борьбе. И сегодня критика, особенно молодая, заставшая уже совершенно иную Таганку, склонна преувеличивать элементы политики в театре Любимова, ограничивая его художественную территорию. Получается, Таганка была детищем определенного времени и ушла вместе с ним.
Вроде бы это так.
Таганка действительно была порождением времени. Ее корни в социальных процессах, начавшихся после смерти Сталина, обозначившей одну из самых принципиальных границ в истории государства российского. Это был театр, впитавший и выразивший самую суть (по-настоящему до сих пор не исследованную) преломления идей шестидесятничества в художественном (в самом широком смысле этого слова) процессе.
Однако преломление было множественным и сложным. Прежде всего, изменилось само положение художников. Впервые за долгое время они оказались в ситуации возможности выбора. Прозаики и поэты, отвергнутые официальными издательствами, уже не прятали рукописи в тайных глубинах письменного стола. Их произведения расходились достаточно широко, отпечатанные на тонких листах папиросной бумаги. Их передавали из рук в руки, собирали в крамольные “самиздатовские” библиотечки. Кроме “сам-издата” существовал и “тамиздат”: многие рукописи пересекали границу, неведомыми путями пробирались в зарубежные издательства. Все это влекло за собой страшные последствия, но уже далеко не те, что во времена сталинских репрессий. Теперь приходилось рисковать свободой, качеством жизни, социальным статусом (многие шли в истопники, сторожа, чтобы сохранять творческую независимость), но все же не жизнью. Художники, порвавшие с соцреализмом, тоже умели найти путь к обществу. Их практически подпольные выставки уже не зависели от стригущего отбора всякого рода выставкомов и государственных комиссий, они повиновались лишь логике творческого процесса и открывались в местах часто совсем неожиданных.
Возрождалось нормальное ощущение художника, стремящегося выжить не ради самого выживания и уж тем более не ради житейских благ, но во имя того искусства, которое они могли и хотели делать. Шестидесятые годы как бы расслаивались. Они не исчерпывались тем, что было у всех на виду. Как тяжело груженый корабль, они глубоко оседали “под воду”. В спасительной дали от надзирающих глаз работали многие. Отстраненность от власти как попытка защитить свое творческое (и человеческое тоже, разумеется) “я” – одна из доминант того времени. Хотя справедливости ради надо добавить, что была и другая: соединить “мученичество” с преуспеянием, найти тонкий, вкрадчивый компромисс, не замечаемый доверчивым взглядом.
Театр в такой ситуации занимал особое место. Он был слишком материально громоздким и человечески многонаселенным. Для него неприближение к властям, ускользание из-под их контроля физически исключалось. Он был государственным учреждением и неусыпно контролировался государством. Каждый шаг строго регламентировался: утверждался репертуар, количество спектаклей, время и характер гастролей. Государство вмешивалось во все. В художественную направленность, внутреннюю жизнь и, конечно же, в то, какие идеи театр собирается проповедовать. Каждый спектакль, прежде чем его увидит (или не увидит) публика, проходил несколько этапов официального надзора, а потом принимался специальной комиссией, составлявшей “акт приемки”, где указывалось, что следует переделать, а что – вовсе убрать. Но и этого мало. Во время спектакля среди зрителей находились представители от цензуры, следившие, чтобы актеры не отклонялись от утвержденного текста. В таких условиях, казалось бы, ничего не возможно. И, тем не менее, Юрий Любимов создал театр вопреки всем и всему, как самый радикальный из тогда существовавших.
Пытаясь сбросить с себя слишком плотную опеку инстанций, Таганка постоянно лавировала и противостояла. Некоторые спектакли сдавались по нескольку раз. И перед группой чиновников, в пустом зале (посторонние на подобные сдачи не допускались) актеры играли с вызовом, азартом. Словно сражались с неприятелем у стен крепости.
По сути дела, так оно и было. Эта атмосфера постоянного риска, неповиновения сама по себе уже сплачивала коллектив, заставляла каждого ощущать себя частью единого целого.
Но шестидесятые годы отмечены не только противостоянием между системой и передовой частью общества. Они были еще и годами удивительной солидарности, радостного доверия между единомышленниками. Как-то сразу и стремительно начался процесс возрождения нормального, неопасливого общения. Страх, сковывавший людей в годы культа, превратившийся в неотъем-лемую часть повседневности, изживался теперь в бесконечных откровенных разговорах на кухнях, о том, о чем прежде и подумать-то было опасно. Вновь возникало не создаваемое “творческими союзами”, а естественно рождающееся пространство общения, обмена творческими идеями, формировалось новое, раскрепощенное видение мира. Действительность представала в ее реальном обличье, без подтасовок и ретуши. Теперь даже коллективные действия оказывались возможными.
Для театра такая смена атмосферы была особенно благотворна, ведь тут нельзя работать в безопасном одиночестве, тут художник поневоле должен быть открыт и откровенен. Режиссер не может утаивать свой замысел от актеров, музыкантов, художников. Тем более Любимов, который не запирался в кабинете, не отделял себя от труппы стеной бюрократической иерархии вопреки стремлению властей превратить театры в подобие контор, где устанавливались бы здоровые отношения начальников и подчиненных. В этом смысле советские театры находились под двойным ярмом: бюрократический аппарат, послушный аппарату партийному, давил на них сверху и в то же время как бы прорастал изнутри, омертвляя и выхолащивая сам процесс творчества.
Любимов же не был начальником, как это ему полагалось по чину. Он был Мастером, предводителем банды, капитаном пиратского корабля, вторгшегося в море вынужденного спокойствия. Он влиял на труппу самой своей личностью, а не с помощью “рычагов власти”, как иные его коллеги. Он постоянно находился где-то здесь, рядом. И его присутствие, казалось, наполняло само здание особой энергией. Талант – всегда источник незримого, но могучего излучения. Режиссерский талант – тем более. Любимов “заряжал” актеров, как экстрасенсы “заряжают” воду. Он постоянно находился в театре, особенно в самые первые годы. Приезжал рано: на Таганке репетиции начинались в 10 утра, на час раньше, чем в остальных театрах. После репетиции – занимался делами текущими, входил во все мелочи. Уезжал обедать и опять возвращался в театр. Когда начинался спектакль, шел в зрительный зал и из его глубины сигналил актерам фонариком, над чем так любили (напрасно) подтрунивать критики.
Любимов старался идти напролом, он то и дело выходил за границы дозволенного и тем отодвигал сами эти границы. Он умел не просто бороться, но умел побеждать. И справедливо гордился, что до 1980-го года у него закрыли всего два спектакля: “Берегите ваши лица” Андрея Вознесенского и “Живого” Бориса Можаева. (“Живого” он упрямо отстаивал долгие годы и все-таки выпустил в новой перестроечной ситуации, уже после своего возвращения.) Он, а вместе с ним и его труппа, не соглашались считать себя бессильными жертвами. Они сопротивлялись отчаянно и весело, превращая даже поражение в демонстрацию силы. Когда запрещали спектакль на Таганке, они не воспринимали этот запрет как окончательный и продолжали борьбу. В других театрах чаще всего отступали. Но когда Любимова за все того же “Живого” уволили из театра, труппа не молчала, как молчали актеры “Ленкома”, когда оттуда изгоняли Анатолия Эфроса. Весь театр целиком, не только актеры, но электрики, рабочие сцены, словом, весь коллектив решил подать заявление об уходе. Такое поведение по тем временам было опасным: оно грозило пожизненными неприятностями. Проиграй они тогда эту “игру”, и судьба многих сложилась бы совершенно иначе.
Строя театр-крепость, Любимов, однако, не закрывался от мира. Напротив, Таганка быстро стала пространством, открытым для свободного общения. Здесь вновь возникала естественная художественная среда, замененная всякого рода творческими союзами, контролируемыми властями. Таганка для современников была больше, чем просто театр: это был своеобразный клуб радикальной интеллигенции, свободный “притон” левых сил. Практически все самое сопротивляющееся и талантливое, пробудившееся или воскреснувшее при первых признаках потепления социального климата, собиралось там. И если кому-либо из “компетентных органов” пришло бы на ум сразу и вдруг покончить с интеллигентской крамолой, то надо было лишь оцепить Таганку в вечер премьеры: там оказались бы многие.
Любимову удалось не только объединить свою труппу, но и как бы расширить ее, продлить в самые разные сферы культурной и общественной жизни. Поэты, прозаики, музыканты, ученые, политики всемирно известные и еще только начинающие свой путь – стали частью таганской повседневности, а не только украшением премьер. Эти разные, часто недоступные, люди были своими в тесном закулисье Таганки. Их притягивал этот театр и, прежде всего, сама личность Любимова, обладавшего способностью не просто улавливать в свои сети лучшие тогдашние умы и души, но и создавать атмосферу раскованности, свободного интеллектуального общения, в котором так естественно происходил обмен мыслями и замыслами.
Эти люди, образовывавшие как бы “круг Таганки”, являлись не просто гостями, забежавшими на огонек. Они стали необходимой для Любимова и его актеров частью творческого процесса. Одни были членами Художественного совета театра, другие приходили на прогоны и просто так. С ними делились планами, им показывали еще незавершенный спектакль с тем, чтобы выслушать советы и мнения. Кабинет Любимова был постоянно открыт для посетителей и для тех, кто работал в театре. Он служил местом неформальных контактов, в которые была втянута и вся труппа.
Очень важно понять еще и другое. Шестидесятые годы, выдвинувшие на первый план новых, едва успевших повзрослеть людей, определивших творческую и интеллектуальную атмосферу в обществе, были, кроме того, редким для истории России временем солидарности поколений. Раскол общества на этот раз не прошел по горизонтали, отделяя “отцов” от “детей”. Он был принципиально вертикальным: по убеждениям, по отношению к “системе”.
Шестидесятые – это период наведения мостов. Конечно, молодые, все эти, невесть откуда вдруг выскочившие “мальчишки”, талантливые и смелые, чья юность не была придавлена существованием великого вождя всех народов, стали плотью шестидесятых. Они бесстрашными толпами заполняли площади и аудитории, оказывались в центре внимания обновляющегося общества. Но рядом с ними, часто впереди, оказывались и люди иных поколений, те, чей опыт был трагичен. Их давили и гнули, морили голодом, пытали, ссылали на каторгу. В этом строю рядом с живыми шли еще и “призраки”. В новых социальных и художественных процессах огромная роль отводилась мертвым и изгнанным. Без них, без впрок совершенной ими работы, молодым не на что было бы опереться. В этом смысле “шестидесятниками” были Маяковский, Хлебников, Мейерхольд, Белый, Набоков, Бердяев, Цветаева, Булгаков, Ходасевич, как и многие-многие прочие. Они возвращались, кто открыто, кто тайно, на самиздатовской папиросной бумаге. Именно тогда, а не в годы новой гласности, начались процессы сближения двух насильственно разъединенных ветвей нашей культуры: оставшейся в России и зарубежной.
Таганка вполне отражала эти стороны времени. Ее закулисный “клуб” был многоликим и многовозрастным. Рядом с молодыми поэтами, с самыми яркими представителями новой прозы можно было увидеть Петра Капицу, нобелевского лауреата, всемирно известного физика, блистательного драматурга Николая Эрдмана, чья судьба была перечеркнута арестом и ссылкой, маститых московских профессоров. Для Таганки работали замечательные композиторы – Софья Губайдуллина, Эдисон Денисов, Альфред Шнитке. Своими были и Булат Окуджава, и Юрий Карякин, и Александр Бовин, тогда обозреватель “Известий”, и Александр Аникст, самый известный советский шекспировед.
Актеры Таганки, которым оказалось доступно общение с творческой и интеллектуальной элитой тех дней, безусловно, испытывали объединяющее и развивающее воздействие такого общения. Они ощущали себя причастными к самым глубинным и остро текущим процессам действительности. Их личность формировалась иначе, многогранней, свободней, чем в театрах, где актеры заперты в своем закулисье. Не случайно, Высоцкий на льстивое замечание, мол, без вас не было бы Таганки, ответил, что без Таганки не было бы Высоцкого. И это, скорей всего, правда. Не случайно, в труппе Любимова очень многие пытались выразить себя не только на сцене. Кроме Высоцкого писали и печатались Золотухин, Демидова, Смехов, Филатов. Любимов поощрял и использовал попавшие к нему дарования: актеры писали тексты и музыку для спектаклей, участвовали в разработке композиций, режиссировали.
Конечно, политика, борьба с идеологической ограниченностью и бюрократической омертвелостью, “дразнение гусей” было одной из существенных составляющих искусства Таганки. В какой-то мере театр можно было считать политическим. Но при всей своей ангажированности, общественном темпераменте, потребности видеть перед собой противника, Любимов никогда не терял из вида искусство. Да, он быстро научился вести свое беспокойное театральное дело под дамокловым мечом, черпая в опасности энергию, используя нападающих для опоры. Как раз в то время Марсель Марсо показывал в Москве свой номер “Идущий против ветра”: человек будто ложился на отбрасывающий его ветер и, экономя собственные силы за счет внешнего сопротивления, продвигался упрямо вперед. Так вел себя и Любимов.
Окончание следует
Римма КРЕЧЕТОВА
