
В День Театра – 27 марта – в Большом театре состоится торжественная церемония вручения премий “За выдающийся вклад в развитие театрального искусства”. Среди лауреатов почетной “Золотой Маски” – Марина Азизян, замечательная художница, сценограф, график. В ее послужном списке десятки спектаклей в столице и в провинции (в том числе, и в Большом – “Лебединое озеро” и “Богема”), кинокартин, выставок в России и за рубежом. Те, кто хорошо знаком с Мариной Цолаковной, знают ее как прекрасную рассказчицу. Из записных книжек разных лет художница собрала коллаж – повествование о событиях и людях, о театре и кино. Мы публикуем фрагменты книги “Последняя четверть, Азизян!”, готовящейся к печати в издательстве “Вита Нова”.
Думаю, мне было года два, дали мне карандаш, бумагу и сказали – “Рисуй!”. На мой вопрос – что нарисовать, мама отвечала: “Нарисуй дом!”.
Моя реплика: “Не умею”. – “Нарисуй яблоко!”. Жалобно: “Я не умею!”.
“Нарисуй цветок”. – “Не умею!” – уже со слезами.
Мама успокаивает: “Тогда нарисуй дым!”. Вроде бы получилось. Я теперь иногда рисую дым, когда не знаю, что надо нарисовать.
Стенбок-Фермор
Граф А.А.Стенбок-Фермор построил доходный дом на Тучковой набережной, а сам обосновался на Английской набережной. Всю свою жизнь я живу в этом доме, только набережная поменяла свое название и стала набережной Макарова. Дом трехэтажный с башенками, построен очень добротно, смотрит одной стороной на реку, а другая сторона выходит в сад, где когда-то росли яблони, вишни, сирень разных сортов, какое-то дерево с плоской кроной, а по периметру – кусты акации. Кроме того, были огорожены газоны, каждую весну сажали цветы. В 1916 году граф скончался, а тут и революция подоспела. Дедушка в это время строил Кронштадтский порт, семья жила тоже в Кронштадте. В 1921 году случился знаменитый кронштадтский мятеж, и моя бабушка приняла решение покинуть остров и перебраться в Петроград. Она нанимает бунтующих матросов, договаривается с управляющим санным обозом, который держал связь с Петроградом: грузят мебель, картины, чемоданы, узлы, детей, деда и на нескольких санях отправляются по льду Финского залива до берега Петрограда.
Доходный дом Стенбок-Фермора оказался свободен, в нем вскоре арендовали квартиру на втором этаже. Там помещались большая кухня, комната для прислуги, кладовка, выходящая во двор другого дома, просторная ванная комната с медной колонкой, которую топили дровами, всего семь комнат. Мама рассказывала, что когда они въехали, заметны были признаки графского быта: на лестнице лежали ковры, у входных дверей топились два камина, стены украшали бронзовые светильники с хрустальными подвесками, в доме еще оставались дворники, садовники, служившие при графе.
Потом, во время войны, в соседний дом попала бомба, и наша квартира, как и многие квартиры в Ленинграде, стала коммунальной. Теперь здесь обитало шесть семей, в каждой из семи комнат разместилось по несколько человек.
Отопление печное, тут мы сохранили графскую традицию, правда, печников не было, а потому дрова надо было носить из подвала. На кухне – большая плита, когда-то на ней готовили графским постояльцам, но теперь каждая семья обзавелась кухонным столом, на нем примус или керосинка, а над каждым столом – полка для кастрюль. Кухонные полки в коммунальных квартирах красноречиво свидетельствовали о характерах жильцов. У некоторых, особо пристрастных к эстетике, полочки были окаймлены как бы кружевами, вырезанными из газет. Примусы и керосинки заправлялись керосином, а потому бидоны с этим вонючим горючим стояли в коридоре или на кухне. В центре квартиры – гостиная, где, наверное, обедало графское семейство, но к тому моменту, когда начали уплотнять, из нее сделали проходную комнату, отделив от коридора фанерной перегородкой не до потолка.
Вы не помните, как тут было при Стенбок-Ферморе?
Прошло много лет после войны, появились газ, паровое отопление, но коммунальные квартиры оставались. В подвале периодически лопались трубы, хлестала горячая вода, дом приходил в негодность. Да и жильцы старились, помирали, не дождавшись переселения в отдельные квартиры. Но наступил 2004 год, и богатые люди принялись раскупать коммунал-ки, расселять оставшихся в отдельные квартиры. Новые обитатели скупали сразу по несколько квартир, появилась охрана, своя уборщица. Были заменены все трубы, покрыта крыша, отреставрирована лепнина, но, поскольку поселился у нас вице-губернатор города, этот ремонт делал муниципалитет. А я, наивная, несколько лет ходила на прием к чиновникам с заявлениями, но так ничего и не смогла добиться. Однажды прорабу, который занимался ремонтом квартиры вице-губернатора, я рассказала про Стенбок-Фермора, про то, что он сделал для города, что это был за человек. Он внимательно выслушал и спросил. – А Вы, Марина Цолаковна, не помните, как тут было при Стенбок-Ферморе? – Конечно, помню! – радостно отвечаю ему и пересказываю то, что мне рассказывала мама про 1920-е годы, когда они стали жить в этом доме: ковры, бронзовые бра с хрусталями.
В один прекрасный день, когда я вошла в нашу парадную, все было так, как я описала, только бронзовые бра выглядели, как будто прибыли из Арабских Эмиратов, да и хрусталь отсутствовал. Ступени лестницы в нашем трехэтажном доме сделаны из пудостского камня – из него были построены и колонны Казанского собора, и много чего в Петербурге. Но нашей губернаторше не нравилось, что камень с ямочками, трещинками, пятнышками, и ступени по ее повелению покрасили в цвет крейсера Аврора. А заодно и белые мраморные спуски к входной двери тоже приобрели серый стальной цвет. Да разве поспоришь с теми, кто считает себя хозяевами дома? Спасибо, что не выкинули!
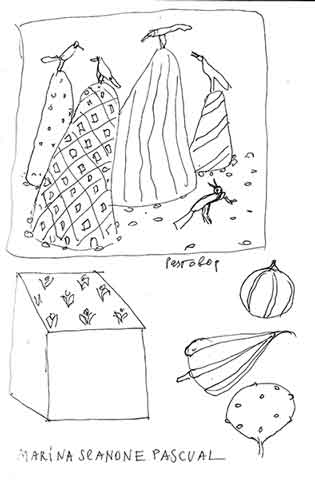
Как-то раз я увидела коридор квартиры этой дамы. Эрмитаж, как говорят в таких случаях, отдыхает! При входе в квартиру вас встречают две колонны с позолоченными каннелюрами, белый мраморный пол, а в глубине коридора изящный столик красного дерева с бронзовыми подсвечниками. Дама ездит на великолепном автомобиле, но не сама водит машину, а водитель. Правда, пришлось спилить несколько деревьев в нашем саду, которые были посажены еще при графе Стенбок-Ферморе, чтобы поставить автомобили, но какие это пустяки! Мы простили почти все, потому что она добилась от государства, чтобы был порядок в доме, а у нас не получалось. Хорошо бы в каждой парадной поселить чиновника из мэрии, депутата, советника депутата, друга президента, ведь их так много! И тогда мы будем в порядке!
Путешествие Акимова в Армению
Николай Павлович Акимов – мой учитель – никогда не был в Армении. Позвонил мне и попросил совета, с кем повидаться, к какому художнику попроситься в мастерскую. Я с удовольствием дала ему телефоны, адреса, куда хорошо бы съездить. Возвратившись, Николай Павлович позвонил, и я с нетерпением ждала его рассказов о моих замечательных друзьях-художниках, о прекрасной природе Армении, о красоте зданий из розового туфа, о реке Занге, об Арарате, наконец. Он позвонил, и рассказ его был краток: “Я познакомился с таким человеком! Знаешь, по-моему, он – гений. Ничего подобного я не видел!”. Я робко спрашиваю, кто это. – Параджанов! Николай Павлович с явным удовольствием произнес это имя. “Он показал мне кинопробы к своей картине “Цвет граната””, – продолжал Акимов. Сам Сергей Параджанов настолько поразил Николая Павловича, что больше он ничего мне о путешествии в Армению не рассказывал <…>
Даная и Орбели
Моя мама Анастасия Ивановна Соколова работала экскурсоводом в Эрмитаже. Ее основные темы – античность, Возрождение и обзорные экскурсии по Эрмитажу. Мифы Древней Греции были ее любимой темой. Первый раз она меня повела в Эрмитаж, когда мне было лет 8-9. Поднялись по Иорданской лестнице, а дальше мама сказала, чтобы я закрыла глаза, и разрешила мне открыть их только в зале с висячим садом и сказочными мраморными узкими лестницами, которые вели на второй этаж. Эрмитаж устроен загадочно, и я открываю для себя какие-то новые пространства, таинственные двери, куда могут попасть только сотрудники музея. Директором Эрмитажа в те годы был Иосиф Абгарович Орбели, и как-то раз он устроил прием для физиологов института имени И.П.Павлова, руководителем которого был его родной брат Л.А.Орбели. Маме разрешили меня взять с собой, прием был устроен после закрытия музея, столы с нехитрым угощением расставили перед Иорданской лестницей. К нам с мамой подошел Иосиф Абгарович, познакомился со мной и спросил: “Как ты думаешь, куда мне класть свою бороду ночью – на одеяло или под одеяло?”. Я стеснялась даже рот открыть при нем, но мама что-то за меня ответила. Иосиф Абгарович был небольшого роста, с внушительной бородой и очень яркими восточными глазами – когда он со мной разговаривал, они светились добротой и юмором. “А не хочешь ли ты пойти погулять по Эрмитажу?”. Еще бы! И я поднялась по лестнице. Везде горел только дежурный свет, и немножко страшно было ходить по темным, еле освещенным залам, я в детстве очень боялась темноты. Каким-то образом я дошла до зала Рембрандта и остановилась перед Данаей, которую видела первый раз в жизни. Картина не была освещена, поэтому следовало очень напрячься, чтобы разглядеть, что там написано. Кто такая Даная, я еще не знала, но красота ее роскошно убранной кровати, драгоценные ткани, вышитая наволочка на подушке с кистью, свисающей с угла, амур над ложем – поражали. Притягивали и теплый свет, струившийся сверху, и Даная, простирающая руку навстречу лучу.
А в это самое время, пока я разглядывала в правой части холста лицо старухи, стоявшей за пологом и с любопытством смотревшей в ту сторону, откуда струился свет, кто-то потерся о мою ногу. Кошка! Я испугалась на секунду, но кошка ласково урчала. Она была из отряда эрмитажных кошек, тех, что ночью заступают на свое дежурство. Навсегда Даная для меня – живая женщина, у нее есть кошка, которая ходит рядом. А преступник из Литвы Бронюс Майгис 15 июля 1985 года облил холст серной кислотой. Суд над ним состоялся в Ленинграде, он был признан психически больным и отправлен в Литву, где был освобожден. Сейчас он живет в пансионате и увлекается игрой на аккордеоне. Бронюс Майгис! За что же ты так Данаю? Как же ты живешь после этого?
Быть знаменитым некрасиво?
Хотела бы я быть знаменитой? Ни в коем случае! Только не это! Во-первых, это опасно, потому что, если ты знаменит, эту роль ты должен играть постоянно. Но чтобы не наскучить публике и чтобы тебя не забыли, надо все время придумывать новенькое. Стать совсем другим, войти в другой образ ты не можешь, потому что тебя должны узнавать, ты – знак. У меня были знакомые всемирные знаменитости. Элизабет Тейлор, с ней я работала на “Синей птице” и наблюдала ее в течение почти года. Она не могла себе позволить плохо выглядеть, любая ее человеческая слабость становилась достоянием общества. Но это была красивая женщина, а быть знаменитой и красивой ужасно хлопотно. И она удивлялась, что наши советские газеты не пишут скандальных статей о ней, не ловят ее в гостинице – тогда еще у нас не было принято сплетничать в газетах.
А как был знаменит Юрий Владимирович Никулин! Однажды он мне позвонил по телефону, попросил о встрече, чтобы поговорить по одному делу, связанному с аттракционом дрессированных медведей, с которым приехала в Ленинград Эльвина Эльворти. Я была в ту пору сильно востребованным художником, и, может быть, поэтому Никулин решил, что меня надо уговаривать сделать эту работу для его друзей. Поначалу я была польщена тем, что мне посчастливилось услышать голос Никулина по телефону, но следом мельк-нула мысль, что кто-то из знакомых артистов меня разыгрывает. Уж очень получалось все экзотично: Никулин, медведи, Эльворти… Через некоторое время, услышав звонок в дверь, правда, это был звонок к соседям Ивановым, я на всякий случай вышла к дверям. В дверях таки действительно стоял Никулин, он с вежливой улыбкой спрашивал, здесь ли живет Марина Азизян, на что Иван Васильевич Иванов выговаривал ему недовольно, что надо звонить в другой звонок. Мой сынок, увидев в дверях любимого клоуна, улетел во двор, где сообщил ребятам, что у нас дома Никулин. Услышав это, они не поверили ему и пообещали, что если узнают, что он насвистел, не будут больше никогда с ним играть, и велосипед ему никто не даст покататься. А это уже серьезно! Мы с Юрием Владимировичем пошли в мою проходную комнату, сосед Иванов посмотрел сурово в нашу сторону и, хлопнув дверью, удалился в свою нору, а я приготовилась слушать Никулина.
Он рассказывал о знаменитой династии Подчерниковых–Эльворти, о том, что эти артисты цирка ему очень близки, они много ездят по стране и за границей, и как важно, чтобы было очевидно, что этот номер из России. Мне и в голову не могло прийти сомневаться, я с великой радостью согласилась помочь. Тут же Юрий Владимирович позвонил Эльвине и ее мужу, договорились о встрече. Когда мы выходили из дверей нашей квартиры, стайка ребят дежурила у дверей во главе с моим пятилетним сыном, который тихо на ухо кому-то из ребят прошептал: “Ну, я же говорил!”. И они врассыпную скатились по лестнице, почему-то сильно застеснявшись и потеряв дар речи.
Я знаю, что Никулин многим людям помогал. Тут я должна сказать, что быть знаменитым иногда полезно, если знаменитость открывает двери в кабинеты чиновников. Конечно, знаменитый – это не совсем про него, он народный артист, даже, если бы ему не дали звание, он по сути своей артист самый что ни есть народный.
Ненародный художник Альтман
Натан Исаевич нигде не служил, не состоял в штате театра или студии, но он был членом Союза художников и частенько там появлялся. Его интересовало, что происходит в правлении, в секции художников театра и кино, он смотрел выставки и встречался с коллегами. Альтман наивно полагал, что его опыт революционного искусства может пригодиться. В 1968 году состоялась его большая персональная выставка, она была прекрасна, многие работы мы увидели впервые, великолепные портреты С.Михоэлса, А.Ахматовой, И.Бабеля и других его друзей. Холсты были небольшого размера, на фоне заказных огромных полотен, написанных по договорам ведущими художниками ЛОСХа, выставка была похожа на какую-то заморскую путешественницу, которая сошла не на той станции. Одна из сотрудниц Союза художников, по поручению правления, обратилась к Натану Исаевичу со срочной информацией, что ему немедленно нужно собрать характеристики от нескольких членов Союза, справку о трудовой деятельности для того, чтобы ему присудили звание народного художника. Альтман был известен, как человек немногословный. Он выслушал молодую взволнованную даму. “Деточка, – с легким еврейским акцентом, произнес Натан Исаевич, – меня вполне устраивает звание – художник”!
Алиса, Фидель и Азизян
В институте я училась в одно время с Алисой Фрейндлих, но она была на два курса старше, и мы только здоровались. К моей радости мы пересеклись, когда я работала с Григорием Дитятковским над спектаклем “Двенадцатая ночь” в БДТ, где она совершенно изумительно сыграла роль шута. Мне очень понравилась идея режиссера дать эту роль Алисе. И я с удовольствием работала с ней, примеряла костюмы, нарисовала много обликов шута. Почему-то я решила, что этот персонаж может себе позволить появляться на сцене каждый раз в новом облике, чтобы его никто не узнавал.
Приходит дамочка в умопомрачительном наряде, весьма гламурного типа, и только мы привыкаем, что это шут, в следующий раз на сцене появляется слепой человек в синих очках и с белой тростью, и это тоже шут. Потом является цирковая клоунесса в тулуз-лотрековском платье, с размалеванным лицом, а на носу у нее длинное белое перышко птицы, которым она, шагая по сцене, ловко жонглирует. Фонтан идей из меня бил ключом, однако терпеливая Алиса его осторожно заткнула, но так деликатно, что я не заметила и не успела открыть рот, чтобы спорить. Все так неожиданно и интересно – сказала она, но мне не хватит времени, чтобы переодеваться. Сказала как-то совсем не обидно и очень отрезвила меня, в результате нашлось отличное решение костюма и образа. Алиса сыграла тетку, которая пошла в шуты, быть может, не от хорошей жизни, но ремесло свое знает, одета не шибко нарядно, но мудрости ей не занимать.
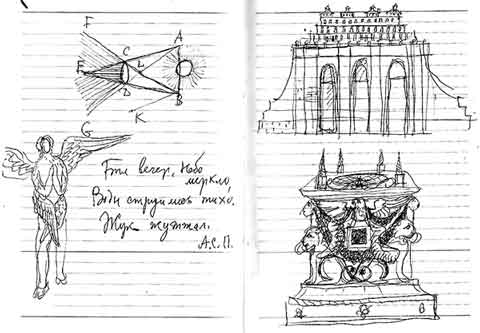
Была у нас с Алисой Бруновной встреча на сцене, которую я недавно вспомнила. Было это году в 1961 или 1962. Алиса уже работала в театре имени В.Ф.Комиссаржевской, но денег, наверное, не хватало, и она пошла подработать на елках. Трудно пересказать тот бред, который царил на сцене Дворца культуры то ли имени Цурюпы, то ли кого-то еще, но точно не в центре города. Представления эти, хоть и были новогодними, но, как правило, не лишены были идеологического уклона. Кроме традиционного Деда Мороза в спектакле действовал Фидель Кастро в окружении своих друзей-революционеров. Только два года назад совершилась революция на Кубе, об этом знал Дед Мороз, Снегурочка, кубинские дети и советские пионеры, и все зрители в зале. Самое замечательное заключалось в том, что лидера кубинской революции изображал солист Кировского театра оперы и балета (ныне Мариинского), замечательный бас Владимир Морозов, а чудовищ капитализма в облике злых волков играли артисты ТЮЗа и Театра Комедии. Я изображала в массовке кубинскую девочку, Алиса играла, кажется, лису, но в каких отношениях были лиса, Фидель, пионеры и кубинские девочки, выяснить не удалось.
У Завена в мастерской
Мастерская у Завена Аршакуни в Гавани на Наличной улице поначалу была просторной и светлой, но скромно росшие у него в горшках цветы стали размножаться, вырастали из горшков, он входил в их положение, пересаживал в кадки, отправлял на антресоли, они лезли вниз своими длинными плетьми. Для того чтобы пройти к мольберту, Завен каждый раз нежно раздвигал их ветки, но ему и в голову не приходило укоротить их, он только радовался, что им нравится жить в мастерской рядом с ним. Наконец, они завоевали все пространство первого этажа, оставив хозяину небольшой пятачок, где он пристраивался со своим мольбертом. У него были какие-то очень близкие отношения с растениями, они не оставляли шанса забыть про себя, не то возьмут и выкинут ему цветочек навстречу. Они росли, цвели, выбрасывали все новые и новые побеги, ползли по полу, сползали с антресолей, и казалось, хотели задушить в объятиях своего хозяина зелеными вьющимися стеблями. Когда его не стало, они засохли от горя.
Das ist normal!
К Николаю Робертовичу Эрдману пришел с визитом какой-то известный шведский филолог, переводивший пьесы Эрд-мана на шведский язык, поклонник его литературных произведений. Эрдман принял его в своей скромной квартире, был накрыт нехитрый стол, и заезжий филолог, который приехал в Москву только за тем, чтобы познакомиться с Николаем Робертовичем, был очень оживлен и задавал много вопросов. А хозяин дома довольно меланхолично отвечал ему.
“Господин Эрдман, вы автор пьесы “Мандат”, которую ставил Всеволод Мейерхольд, она идет во многих европейских странах, почему вы живете в такой маленькой квартире?” – “Das ist normal”, – отвечал Эрдман.
“Почему Вы не получаете процентов от сборов тех театров, в которых идут Ваши пьесы?” – “Das ist normal”, – отвечал Эрдман.
“Ваше имя стоит в ряду классиков русской литературы, таких, как Гоголь, Салтыков-Щедрин, почему у вас не изданы тома с баснями, стихами, сценариями к фильмам?” – “Das ist normal”, – отвечал Эрдман.
“Вы провели столько лет в ссылке!” – “Aber das ist auch normal”, – отвечал ему Эрдман.
“Я удивлен, что в советских театрах не ставят ваши пьесы!” – “Das ist normal”, – отвечал ему великий драматург и поэт Николай Робертович Эрдман.
Концерт Вертинского
В 1956 году я узнала, что во Дворце культуры имени М.Горького состоится концерт Александра Вертинского. Мне кажется, никаких афиш не было. А около ДК имени Горького висело большое объявление о концерте, оно было написано на холсте клеевыми красками, так в те годы рисовали художники, работающие в штате кинотеатров или домов культуры. Жалко, что все это, наверное, не сохранилось. О Вертинском мне рассказывала мама, поэтому я решила пойти на концерт. Сидела я далеко, но на меня произвела впечатление манера певца, поэзия, полная лирики и иронии, а кроме того, красивые белоснежные кисти рук, которыми он очень выразительно дополнял исполнение песен. Публика в зале была настолько изысканная по выражению лиц и по аскетической элегантности в одежде, что казалась совершенно нездешней. Конечно, это были ровесники Вертинского. Наверное, о таких лицах мечтал Александр Сокуров, когда снимал фильм “Ковчег“, но их уже смыла волна истории.
Гаевский и Акимов
В одну из годовщин смерти Николая Павловича Акимова мы устроили вечер его памяти во Дворце искусств, как тогда именовался нынешний Дом Актера. Было не так много народа, помню Н.Крымову, Е.Калмановского, С.Юрского, Е.Юнгер, Е.Уварову и многих почитателей Акимова. Выступление каждого оратора начиналось со слов: Я не готовился к сегодняшнему выступлению, но хочу сказать… Только Вадим Моисеевич Гаевский, специально приехавший из Москвы, попросил прощения, что подготовился. Достал школьную тетрадку, которую он всю исписал, пока ехал в поезде. Он прочитал свое сочинение – оно было посвящено чувству юмора у Акимова. О способности режиссера замечать национальные особенности юмора у разных народов и в разное историческое время. Это был прекрасный доклад, позже я интересовалась, не сохранился ли он у Гаевского. Нет, не сохранился, к сожалению. В 2016 году я делала как куратор большую выставку работ Николая Акимова в Бахрушинском музее Москвы, и на открытие пришел Вадим Моисеевич, которому в ту пору было 88 лет, но приехал он на общественном транспорте с пересадками. Говорил он, как всегда прекрасно, весело оглядываясь на большой фотопортрет Акимова 1930-х годов, где тот снят в кепке. Вадим Моисеевич время от времени восклицал: “Ах, эта кепка! Ах! Надо же – какая кепка!”. И смеялся. Он не был лично знаком с Акимовым, но помнит его спектакли и любит его.
Продолжение следует
Марина АЗИЗЯН
«Экран и сцена»
№ 4 за 2020 год.
