
27 августа исполняется 125 лет со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской.
Предлагаем читателям ее записи самых последних лет – актриса умерла в 1984 году, а короткие фрагменты датированы 1978–1983 годами. Многое из ее высказываний, схожих по мысли, разбросано по разным книгам об актрисе. Ряд цитат из этого ежедневника (красная обложка, профиль Ленина, даты 1870–1970, выпущен к столетию) был опубликован подругой Фаины Раневской, актрисой и режиссером Ниной Сухоцкой (1906–1988), которой написанное и адресовано, – в книге Л.Ф.Лосева “О Раневской” (М., 1988). Там Сухоцкая, в частности, рассказывает: “Фаина Георгиевна никогда не вела дневников, но иногда записывала очень коротко то, что вспомнилось, о чем подумалось. Эти мысли о друзьях, о театре были небрежно раскиданы в записных и телефонных книжках, в календарях, а порой и просто на листках бумаги, которые обычно сразу выбрасывались”. Записи непременно сопровождались множеством рисуночков.
Небольшие купюры в публикации связаны с повторами одних и тех же сюжетов. Также убраны затесавшиеся сюда номера телефонов, адреса или черновики записок и писем.
Документ хранится в личном архиве А.Б.Чижова, сына Н.С.Сухоцкой, и любезно предоставлен им для публикации.
1978 г. Ниночка, записки тебе только. Потом увидим, какой была я глупой и бездарной.
Хорошо бы иметь карандаш хороший, может быть, тогда бы стала записывать все, что вспоминается теперь под конец.
<…>
Тоска – болезнь, от которой лекарств нет, измучила тоска. Смертная тоска, одиночество. От зрителей письма, полные любви, но ведь это не мне, а тем, кого изображаю. Тоска, тоска.
Смотрю в собачьи глаза, вся стена в собачкиных портретах, подношение зрителей. Провинция всё знает, знают, что люблю собак с неистовой нежностью. Глаз таких умных, всезнающих и таких красивых у людей не встречала. Это потому что собаки молчат, а знают о людях всё. Мой подкидыш тоскует, ему передается моя тоска.
Тоскую, скучаю без Михаила Ромма.
Не так давно видела в телевизоре немую “Пышку”. Как же был талантлив Михаил Ромм, если в немой “Пышке” послышался мне голос Мопассана, гневный голос его о подлости людской. Этот фильм был первой самостоятельной работой Ромма, художника недооцененного, как мне думается. Связывала меня с ним крепкая дружба. Однажды он сказал мне, что фильмы свои его не радуют, но когда смотрел свой фильм “Мечта”, плакал. В этом фильме, где я у него снималась, Михаил Ильич очень помогал мне как режиссер, как педагог, доброжелательный, чуткий к актерам, он был очень любим всеми, кто с ним работал. Вспоминается, как однажды заболев, я попала в больницу, где находился и Михаил Ильич. Увидев его, я очень опечалилась, поняла, что он тяжело болен. Был он мрачен, помню хорошо, как он сказал, что человек не может жить после увиденных неимоверного количества метров пленок, показывающих зверства фашистов.
Там, в больнице, я получала от него записки, которые отдала на хранение в Центральный государственный архив литературы и искусства, а чтобы меня позабавить, в одной записке было сказано: “Я Вас люблю, увидимся в палате”.
<…>
Это я писала в 78 году, а в конце 81-го то же самое, тоска, тоска смертная.
У меня нет интеллигентных знакомых. Любимые умерли. Все говорят одно и то же, всех объединил быт, вне быта не попадаются, да и я, будучи вне быта, никуда не гожусь.
Жить надо так, чтоб тебя поминали добром и сволочи. 81 г.
Пришла Ася со старинной аристократической фамилией Сухомлинова. Я ей рада, а вообще-то никого не пускаю.
Нинтик, Ниночка моя, сокровище мое, что бы я делала без тебя на этой злой земле!
Один из моих любимых композиторов Бетховен писал: “Не знаю большего величия, чем доброта”.
Я тоже так думаю, но как их теперь мало добрых. Где они?
Рылась в старом бюваре, нашла свои записи короткие о том, что говорила мне моя чудо Екатерина Васильевна Гельцер, после Гельцер скучно в балете, не смотрю балет.
Гельцер сказала, что ей безумно нравится один господин и что он древнеримский еврей!
Я хохотала, она не обижалась на меня. Я не знала прелестней Гельцер балерины на сцене и в жизни, не знала забавней Гельцер, как стало мне скучно без моих: Павлы Леонтьевны [Анисимовой-Вульф], без Анны Ахматовой, без Гельцер. Как одиноко.
Все думаю о Пушкине. Пушкин – планета!
Гости-интеллектуалы увели Тютчева в своих портфелях, увели Осипа Мандельштама – сволочи. Вспомнила Мандельштама в “салоне у Альбрехтов”, в их роскошном доме с горничными и лакеем, с прелестной хозяйкой и противными ее дочерьми. Вспомнила, как Мандельштам пожирал сладости и читал свои стихи: “Он Цицерона на перине читает, отходя ко сну, так птицы на своей латыни молились Богу в старину”. Меня смешили эти стихи, мне было тогда 19 лет.
Проклинаю себя за то, что не записывала все, что слышала от А.А.
Она так изумительна была во всем, что говорила, писала. Стихи ее люблю, как люблю пушкинские. Пушкина она боготворила. Как было с ней хорошо, как интересно. Сейчас я одна, одна до ужаса.
Почему я не записывала – идиотка – всё, что от нее слышала, узнавала?
А какая была труженица, и корейцев переводила, и Пушкиным занималась, и мучилась Лёвой, которого у нее отнимали!
Как одиноко мне без нее, без моей Павлы Леонтьевны. Ужас – моя жизнь теперь.
Тоска, смертная тоска, и так вся жизнь. Дело идет к финишу. Вспоминаю детство, мать плачет, убивается, 1904 год. Умер Чехов.
Когда теперь вспоминаю детство, ничего не было радостного, вспоминаю: “Умер Чехов”.
Вспоминаю мою добрую мать, ее крик: “Совесть ушла, как жить?”
1910 г. Умер Толстой. На улице плакали прохожие, я это видела, и теперь вспоминается только все горестное.

Интеллектуалы унесли и Каролину Павлову. – Сукины дети!
Тютчева постигла та же участь.
“О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней”.
Всё время твержу: “Полнеба охватила тень, лишь там на севере бродит сиянье, помедли, помедли уходящий день, продлись, продлись очарованье”.
Что за чудо, что за прелесть Тютчев.
Интеллектуалы сперли 6 том Шекспира уникального издания! Каждый день обнаруживаю новую кражу книг. Уборщицы унесли серебро – вилки-ложки, которые мне нужны были, чтобы продать. Всегда без дензнаков. Не везет на прислугу, на интеллектуалов тоже!
Вчера играла, не игралось, не жила в роли, нечем было жить.
Искусство понимаю как самоограничение, вчера старательно самоограничивалась. В театр пришел актер Юрский. Вообразил себя режиссером. Зря, зря вообразил.
Играли Островского, которого бережно люблю. Страдала за Островского. Публика неграмотно хлопала, Юрский ликовал.
Сейчас унесли портрет работы Надежды Александровны Пешковой, которую я очень любила. Была она доброй. Учителем был у нее Павел Корин, помог ей хорошо меня изобразить. Портрет отвезли в Музей Бахрушина (где я никогда не была!). Если портрет одобрят – будут деньги. Это приятно – есть, кому помогать.
И зачем я все это пишу? Себе самой. Смертное одиночество.
Читала однажды Ахматовой – Бабеля, она восхищалась им, потом сказала: “Гений он, а Вы заодно”. Тоскую по ней, тоскую по моей доброй умнице Павле Леонтьевне.
Была Ася, славная она. И ей приходилось, как и мне, радоваться близости Ахматовой, и это нас с ней роднит.
Надо играть на театре, а уже неохота, трудно, старая я для играния. Роль бытовая, нянька, быта не люблю, не умею. Директор не понимает ни театра, ни актера, одиноко, одиноко. Одна радость – псинка, подобрала на улице, помирала, хозяина, как потом узнала, забрали, собаку избили и выбросили в холодный зимний день, она замерзала, я ее лечила, она теперь живет, как Сара Бернар, а я как сенбернар! В театре тошно, постыдно в нем существовать. Балаган. Актеры неучи, талант – редкость. Проклинаю себя за транжирство, а старость поистине – не радость, а надо в театре торчать ради заработка. Стыдно мне это сознавать.
Кому, зачем пишу? Это все от одинокости.
Тазепам от чего? Для чего мне его сватают врачи?
<…>
Тоска, тоска, тоска. Что бы я делала, если бы не приютила бродяжку псиночку. Полюбила ее, пожалела, она все чувствует, как человек, понимает все, благодарна мне, я рада ей, как другу.
Письма зрителей – чужих людей – ласковые, добрые их письма еще больше внушают чувство смертного моего одиночества.
Жду гостью Певцову, напросилась, опаздывает. Певцов – отец был Великий Актер, не знала ему подобных. Он мне сказал, что я буду настоящей актрисой. Я спросила его: “что мне делать, у меня в роли слов нет, чем мне жить?”. Он сказал: “А ты люби меня, и все, что со мной происходит в спектакле, должно тебя волновать, тревожить. Живи этим”. И я любила его, мучилась его бедами, терзалась весь вечер, а когда спектакль был кончен, я все плакала, подружки меня утешали, а я все плакала. Побежали к Певцову, просили его помочь, успокоить молодую актрису. Он спросил, почему так плачу, что случилось, я сказала: “Я так любила Вас, а Вас обижали, мне было жаль Вас”. Певцов обратился к моим сверстницам начинающим со словами: “Вспомните меня, милые барышни. Она будет актрисой настоящей”. Не могу забыть этих его слов. Что значит “настоящей”? Неужели вечно мучиться недовольством собой.
Новшество – нет суфлера, будь они неладны – новаторы!
Великая Ермолова говорила: “Суфлер – покой актера”. Роли свои она играла сотни раз, знала роль, как свое имя, а будка суфлерская – “это покой актера”. Отнят этот покой – “новшество”, бездарь чертова мешает работать. Театр стал походить на контору, обделывает свои дела всякая шваль, где таланты, я их не вижу. Нестерпимо тяжело, одиноко, ненужно такое, а ведь надо терпеть.
Дождалась весны – холод, даже похожее на снег что-то падало с небесных высот, а ведь так мало уже их осталось – “весен”. Грустно, нестерпимо грустно. Май 82 год.
Что с человеком творит чувство одинокости, сама себе пишу.
Есть и у меня радости: отказалась играть роль чуждую, ненужную. А моей роли так и не создала за долгую жизнь в театре.
Я не интересовала руководство чиновное.
Встретились веселые старухи! С чего бы веселиться им? Старость – болезнь неизлечимая, горестна мне до ужаса старость. Не могу привыкнуть.
Наслаждаюсь, глядя на псинку-подкидыша. Ему у меня хорошо живется. Кто-то сказал: “Женщины любят от жалости”, так оно и есть. Псина моя мучительно страдала от разлуки с хозяином, которого выслали из Москвы. Псинка переболела всеми собачьими болезнями. Кроткая моя собака, не нарадуюсь, глядя, как она спит, ее никто не обижает, ей хорошо у меня, и это моя такая радость – спасибо собаке!
Театр – больше его нет у меня. А люди в нем подличают, сплетни, гадко нестерпимо. Плохо на душе, тоска смертная, и такое одиночество – будто одна на планете. Кому пишу? Самой себе, это же очень плохо, плохо мне. Спасибо собаке, не подлизывается, не врет, глаза добрые. Что бы я делала без нее. Ушли мои все, ушло всё. Боюсь сойти с ума.
Воюют, проклятая Англия, стерва Тэтчер добилась войны, тошно жить, когда где-то убивают люди друг друга, тошно и страшно, тяжко мне. Взбесились, Израиль убивает арабов, а ведь мы пишем арабские цифры. Израиль – фашисты, страшно.
Страшат так [нрзб.] люди – бесчеловечностью.
Израиль – ученик фашистов! Ужас! Страшно жить среди людей – не человеков. Постыдна война в сегодняшней жизни.
Война – Средневековье.
Война – что-то сверхпостыдное.
Не помню за долгую мою жизнь холода в июне. В квартире погреб. Нестерпимо жаль птиц, жаль всё голодное, холодное – тяжело мне на этом свете.
Поженить бы стерву бабу подлую Тэтчер с Рейганом и повесить на одном дереве обоих. Я бы порадовалась, а ведь не могу раздавить таракана! Сволочи люди, ненавижу буржуев подлых чуждых мне, а ведь вышла я из буржуйской среды.
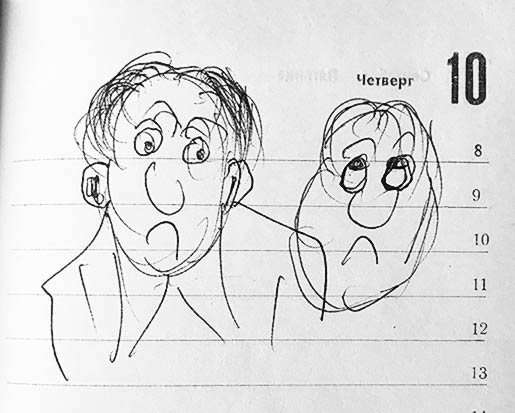
Жить можно только у нас, остальное в мире мне страшно.
Невыносимо сознание, что люди убивают друг друга, война. Взбесившийся Израиль накинулся на Ливан. Нестерпимо сознание, что люди убивают, терзают друг друга. Подлость, гнусность в людях, нестерпимо мне такое в мире, подлая Тэтчер, гнусный прохвост президент Америки, но и в этой страшной мне Америке есть и люди, как же они несчастны.
Пишу самой себе.
Вот оно – одиночество.
Рада Анатолию Адоскину – он творческий, чистый, кроме Толи в театре у меня нет никого своего.
Не помню за долгую жизнь в театре такой пустоты, ненужности. Одиночества.
Кто бы знал, как мне одиноко. Что мне делать с собой?
Вспоминаю молодость. Самое волнующее воспоминание – как у меня болели зубы! Страдала от любви без взаимности, от зубной боли и жалости к животным. И теперь в старости осталось одно – жалость к животным.
Одиночество мучило меня всегда.
Июнь – лето, а его и нет, скорее глубокая осень. Грустно.
Фамилия – Пипкин, переменил фамилию на “Мятежный”. Просил оставить свою – Пипкин. И так мы имеем – “Пипкина-Мятежного”, чему я счастлива за мою Родину.
Владимир Яковлевич Лакшин был на моей Родине – в Таганроге, делает сценарий о Чехове, просит меня рассказать о моем городе. Помню, как вскрикнула моя мать, которую я крепко любила, мать была на редкость добрая. Я укладывала кукол спать, читая им наставления, которые слышала от моей гувернантки. Когда мать вскрикнула, я бросилась в ее комнату, она уронила голову на грудь, лицо было залито слезами. Мать говорила: его нет, он умер, я спросила: кто умер? Наш родственник? Мать сказала: уйди, уйди, оставь меня. В руках у матери была газета, в ней было крупным шрифтом написано: “Вчера в Баденвейлере скончался А.П.Чехов”. Чехов – я видела дома в библиотеке книги, на корешках которых было А.П.Чехов, почему же так плачет мама, кто ж это Чехов?” Открыла книгу, прочитала, мне попалась “Скучная история” – мне было 8 лет, и на этом кончилось мое детство – чего-то не понимала, да мать говорила: уйди, уйди, оставь меня, но что-то ощутила всем существом и полюбила Чехова, и люблю всю мою долгую жизнь.
В Москве, в городе отпуск провожу, лето, осень, а там зима, если доживу. Санатории мои роскошные кончились, не в силах огорчить собаку, бросить на чужих людей. Нельзя огорчать… <…>
Грустно, гнусно всё, вот отчаяние, нельзя так долго жить, как это приходится мне.
Моя псинка со мной, жаль ее, ей тоже хочется на травку, как и мне, а в дом отдыха с собакой не пустят.
Беда.
Кто-то сказал: “нет такого доброго поступка, который не был бы наказанием”. Когда брала собачонку, и начались беды. Гуляющие с ней и кормящие ее две халды, получающие от меня солидную плату, издеваются надо мной, доводят меня до отчаянья. Надо и это стерпеть мне, в моей собачьей жизни. О, Господи, где взять силы мне? У меня есть дом, но я в нем бездомная.
Сейчас позабавила меня врачиха моя, заставила принять все лекарства, которые были у меня, чтобы сердце лучше работало, боюсь, что такое количество лекарств сердцу “не по душе”.
Пристают, просят писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо не хочется, писать о себе хорошо – неприлично. Значит, надо молчать. К тому же и стала делать ошибки, а это постыдно, в письме ошибка, безграмотна, подумают, а это неверно, я знаю.
Самое главное, я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так доживаю, с этой отдачей…
Ошибка в письме. Как клоп на белой блузке! Писем уже не пишу, от зрителей добрые слова. Но ведь это не мне, а теткам моим, которых представляю в театре.
Нестерпимо мне тяжко мое смертное одиночество.
Как мне жаль людей, человека, который испытывает ужас одиночества, как это у меня. С тех пор как ушли дорогие мои, одна, будто одна на всей планете.
Так мне близок Пушкин, так дорог, так чувствую и его муки, и его боль, его одиночество. Ведь он искал смерти – эти дуэли… Он так близок мне, он со мной всегда.
Самое большое мое счастье в трудной, одинокой жизни моей – читать, перечитывать Пушкина. Что бы я делала без него?
Заметила: если человек зимой в холод не подобрал бродячую псину, человек этот – дрянь, способный на всякую подлость. И я не ошибаюсь.
Мучает горе. Кончина Брежнева. Был он
добрым, был Человеком. Не нахожу себе места.
Сегодня хоронят Брежнева. 15-е.
Тоска смертная, каким он был [большим] хорошим человеком, даже говорить сил нет от горя моего.
Сегодня его хоронили, а горе растет, боль все сильнее, каким же хорошим он был, если с его кончиной и для меня всё кончилось.
Однажды была на [приеме] у него. Было это лет 20 тому назад, на всю жизнь запомнила его добрые слова, добрые глаза. Так тоскливо мне без него.
Роюсь в старом бумажнике, там никогда не бывает денег, записки идиотские, ненужные. Их уйма.
Обожала в молодости замечательную балерину, забавного человека Гельцер, нашла записку о ней. <…> Решила писать воспоминания, чтобы от тоски бежать.
Нет, нет, не надо. Еще труднее будет. Друзья ушли…
Ночи без сна, боюсь сойти с ума. Кто бы знал, как одинока я, а может быть, мыслящие все одиноки. Бедные, бедные мыслящие!
Ночью вспоминала мою Екатерину Васильевну Гельцер, чудо на сцене, забавная в жизни, трагически одинокая.
<…>
Она страшно мучилась тем, что уже не танцует. Однажды стала импровизировать сюжет драмы, которую мы бы вместе исполняли: “Я жестами показываю Вам, что наступают враги. Вы поняли меня, и мы обе танцуем победу!” Я говорю: “Екатерина Васильевна, я не умею танцевать”. – “Тогда я буду одна танцевать “Победу”, а Вы будете рядом бегать”.
Милая, неповторимая, как больно мне то, что я забыла почти всё, что от Вас слышала, узнавала.
Ведь мы общались более пятидесяти лет тому назад – но я Вас буду помнить, пока хожу по нашей земле.
Почему-то не могу писать о любимых людях. Просили писать об А.А.Ахматовой – не могу, отказалась, о Качалове, тоже дарившем меня дружбой, не могу, о моей Павле Леонтьевне…
Павле Леонтьевне Вульф обязана тем, что я стала актрисой, а писать не могу. Лучше, чище, добрее, честнее не знала человека, а писать о ней не могу.
<…>
Не выходит из головы фраза: “У меня хватило ума глупо прожить жизнь”.
<…>
Скончалась Бабанова – величайшая актриса нашего времени. Умирала долго, [одно или два слова вымараны]. Смертная тоска по ней у меня. 83 год 5 апреля.
Все время с мучительной тоской думаю об изумительной актрисе Бабановой. Почему, почему так называемый Бог послал ей долгое умирание. За что? Почему?
Живу так одиноко, не с кем вспомнить, говорить о ней. Май 83 г.
Одиночество мое нестерпимо. Скорей бы…
Звонит моя дорогая, добрая “скорая” и обнимаю Ирочку мою “правнучку” из скорой!
Спасибо, врачей неловко приглашать в мои годы.
<…>
Мучает меня одиночество мое, одна, одна всегда, со всеми одна.
КАК СКУЧНО КОНЧАТЬ ЖИЗНЬ.
“Приходит страшнейшая из амортизаций, амортизация сердца и души”. Маяковский. Зачитываюсь им. Гений – Маяковский.
[Рисунки.]
Рисовать не умею, что мне делать?
<…>
Дидро сказал: “Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и не иметь совести”.
Полностью согласна с Дидро – Раневская.
“Нет ничего глупее глупого смеха”.
Украли у меня много книг, жаль – [нрзб.] тоже утащили.
Эврипид: “музыка должна услаждать в горе, а в радости она – роскошь”.
“Высший Божий дар – возмущаться всем дурным”.
Бог меня наградил этим даром.
“Воспоминания для меня равны страданиям”.
Это Достоевский.
<…>
Всегда я без денег, надоела себе Раневская, деньги нужны не мне! Деньги нужны, чтоб их раздавать.
На днях играла, не мучаясь, было легко, потому что старалась не стараться.
“Глупость и тщеславие – неразлучные подруги”, кто-то верно заметил. Наблюдаю часто такое.
Бесчувственному легко быть твердым.
Меня истерзала жалость ко всем голодным – людям, детям, зверушкам, которых так нестерпимо нежно люблю.
Как бы я могла прожить жизнь без собаки рядом.
Публикация Марии ХАЛИЗЕВОЙ
«Экран и сцена»
№ 16 за 2021 год.
