 Завершаем публикацию фрагмента из готовящейся книги И.П.Уваровой о Чарльзе Диккенсе и его героях.
Завершаем публикацию фрагмента из готовящейся книги И.П.Уваровой о Чарльзе Диккенсе и его героях.
ПЕВЕРНУТЫЙ МИР
Что бы ни говорили критиковавшие его, он любим. Диккенс любим до сих пор. Поскольку все еще есть на свете чувствительные души, остро нуждающиеся во врачевании. Сколько раз доводилось слышать от милых женщин – вот выйду на пенсию и буду читать полное собрание сочинений Диккенса.
И стоят во многих шкафах тридцать темно-зеленых томов – сама сдержанность, само благородство и ничего лишнего! Умели же переплетать в 1958 году. Вот оно – Чарльз Диккенс. Собрание сочинений. «Гослит». Москва.
Сиди на заслуженном покое и читай, чего уж лучше… Вот только никогда не довелось мне встретить кого-нибудь, кто бы на склоне лет осуществил эту заветную мечту и сумел осилить все обширное наследие удивительного классика. Смею допустить – такое вряд ли возможно, да и недолго заблудиться…
Может быть, у кого-нибудь все-таки такое тотальное прочтение и осуществилось в силу природной добросовестности, но все равно!
В этом бескрайнем океане текстов отдельными островами возвышаются «главные» романы. Наверное, у каждого читателя свой набор «главных». В конце концов, это зависит от склонности читателя. Я же более всего ценю у Диккенса страницы, где отчетливо явлен ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР.
Когда распоследний растяпа, а попросту говоря, дурак оказывается единственным, кто знает, что есть истина.
Когда жесты дураков смешны, а речи совершенно нелепы. Когда сам Диккенс получает удовольствие, описывая подробно их выходки, и наслаждается их невозможными рассуждениями. И какое же он испытывает торжество, сообщая любезным читателям, за кем именно останется последнее слово.
Диккенс создает свою собственную вселенную, там есть и деревня, и морской берег, и дюны. Он заботливо выводит улицы, не упуская случая попрекнуть их за грязь, возводит дома и подробно описывает обстановку – бедную или богатую. Но ему ничего не стоит все это, над чем он трудился с любовью, – взять да и перевернуть. В этом случае, совершенно необходимом для развития сюжета, ищите меж страниц нелепую фигуру чудака. Или попросту дуралея, говоря откровенно.
Да ведь и Честертон так сказал, не боясь шокировать почитателей обожаемого автора: ключ к великим героям Диккенса в том, что все они дураки. (Или «орден» пожизненных читателей Диккенса есть только у нас?) Не обладая бесстрашием Честертона, попытаюсь кое-что сказать об этих героях Диккенса, которые как раз велики.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
А еще он любил цирк.
Мало сказать – любил, он им гордился так, будто сам его выдумал. И не было в литературе всего мира более счастливого описания торжества справедливости, чем тот воскресный день, в который Диккенс отправил в цирк Кита и его семейство. Кит Набблс! Добрый малый, прекрасный малый – и Диккенс им любуется. Малость туповат, так ведь Диккенс над ним и подтрунивает. Но: Кит привел свое семейство в ЦИРК – и это слово нужно писать большими буквами, самыми большими – для Кита, по крайней мере.
Выход в цирк происходит там же, где была ярмарка, а именно в романе «Лавка древностей». И это самостоятельный финал, против того финала, который печален и даже трагичен. А цирк – что же, это счастье, и ни Кит, ни Диккенс в этом не сомневаются.
В самом деле – вот на арену вышел отъ-
явленный дурень. У него все валится из рук, он падает, споткнувшись на ровном месте, он совсем не знает, что такое велосипед. Он ломает его, а разломав окончательно, вдруг уезжает с арены на одном колесе, на прощание мастерски сделав сальто.
Когда он не занимается своим профессиональным делом, а это дело – дуракаваляние, он более гибок, чем акробат, более ловок, чем канатоходец, а многорукостью превосходит жонглера. Но главное все же в другом, и придется сказать опять – ему как раз и открыто то, что знать не могут все наши мудрецы.
Добавить ли, возвращаясь к «Лавке древностей», что балаган и цирк – близнецы-братья?
Но ведь это же очевидно!
Лирическое отступление кончилось.
КАРИКАТУРЫ РАБОТЫ ДИККЕНСА
«Нет, мои герои не карикатуры.
В них больше жизни, чем
в самой жизни».
Чарльз Диккенс
1. МИСТЕР ГАППИ
Свет не видывал столь нелепого клерка! Он столько же смешон, сколько глуп. Причем глуп как-то особенно, этот молодой человек, мистер Гаппи. Что ни слово, то невпопад, что ни движение, то некстати. А еще и одевается, как бразильский попугай, только, в отличие от попугая, безвкусно (отчего Диккенсу особенно смешно).
И надо же – он, именно он и никто другой открыл страшную тайну происхождения девицы Эстер и позорного прошлого леди Деллок, красавицы и супруги сэра Лестера Дедлока, баронета.
Открыл – и промолчал! И не только потому, что о том попросила его Эстер, но потому, что самым непостижимым образом был благороден, что, прямо скажем, было ему не к лицу. В самом деле, разве ему пристало быть верным в дружбе и щедрым к своим друзьям? Такое украшение сделало бы честь, скажем, доктору Алену Вудкорту, а не этому глупому клерку. Да к тому же он еще и бескорыстен… Но тут Диккенс, как бы спохватившись, торопливо одаряет его чертами, необходимыми для эффекта комического, и нет ничего комичнее на свете, чем мистер Гаппи, читающий свою же записку, где он изложил конспективно все то, что собрался сообщить леди Дедлок. Сцена, надо сказать, жуткая по своей напряженности и глубокому драматизму, но только попробуйте удержаться от смеха, когда этот клерк, отойдя к окну и налетев на клетку с попугаями, комментирует свои же записи! На какой-то случайной бумажке.
2. МИСТЕР ДИК
Мистер Дик, друг Дэвида Копперфилда. Что греха таить – клинический сумасшедший, а злодеи-родичи, посадившие его в бедлам, к великому сожалению, были отчасти правы. Хотя бы формально, ведь мания-то у пациента была и осталась, и он наяву бредил отрубленной головой какого-то короля. И что же? Именно его бабушка Дэвида, эта эксцентричная особа, почитает единственно мудрым человеком, и, вообще-то говоря, она права.
– Мистер Дик разом разрешил все наши сомнения!
Так верят только оракулам, к святилищам которых стоило совершать паломничество. Тем временем наш «оракул» растеряно улыбается и бренчит мелочью в кармане, что бабушка Дэвида как раз не одобряет.
А в какой поистине детский азарт впадает Диккенс, описывая занятия этого безумца (и это он, почитающий честных тружеников, честно исполняющих свой долг!).
Но мистер Дик если и трудился, то сооружая воздушного змея. Еще мистер Дик мог сделать лодку из чего угодно и римскую колесницу из старых игральных карт (колеса со спицами из катушек), а также птичьи клетки из старой проволоки. Ну и какая польза от такого труда для общества? Да, в сущности, никакой, разве что королеве Маб вдруг понадобилась карета, хотя, если память мне не изменяет, английские королевы не пользуются каретами из старых карт.
Он «не от мира сего» в самом прямом смысле этих слов, очень точных, кстати. Зато реалии мира сего он перетаскивает в свою реальность (если только это реальность!). Перетаскивает, переводя его материальные знаки на язык игрушек. И его римская колесница построена просто так, искусство для искусства.
Дайте срок, и мистер Дик еще внесет свой вклад в дело разрубания самого крепкого сюжетного узла, и злодейство будет повержено, а правда восторжествует.
Таков несравненный мистер Дик, чудак, дурак, клинический безумец.
Что ж, Честертон справедливо заметил – феи любят дураков. Да почему бы, скажите на милость, и не любить такого обаятельного мистера Дика! Да и как его не полюбить.
3. КАПИТАН КАРТЛЬ
Вот уж нелепое чудище с крючком в рукаве вместо руки, с невообразимыми шишками на лбу и с глянцевой шляпой, которая редко служит по своему прямому назначению. Судите сами – каким же дураком надо быть, чтобы явиться в контору солидного предприятия высокомерного мистера Домби, чтобы сообщить о своих матримониальных проектах относительно дочери мистера Домби и Уолтера Гэя, форменного голодранца. Мы можем вдоволь потешиться над старым дурнем вместе с автором. Только Диккенс на то и Диккенс, чтобы подвести свой корабль-роман, названный «Домби и сын», как раз туда, где Флоренс Домби и Уолтер Гэй пойдут под венец вопреки здравому смыслу самого бытия.
А в чем, собственно, дело? – спрашивает нас Диккенс, что тут вас смущает? Что мешает осуществлению матримониальных мечтаний капитана Картля? Богатство мистера Домби? Ну, так за чем же дело стало, разорим его, и делу конец!
И капитан Картль, поджаривая хлеб к завтраку, насаженный на его крючок, под-жег хлеб, как факел, и от волнения сунул сей факел в свою шляпу. Однако вот что сказал Честертон об этом романе, естественно, ориентируясь на корпус капитана Картля, как на самый надежный маяк.
Внимание! Здесь – сказал Честертон, «здесь – ДЕЙСТВУЮТ ЗАКОНЫ БУФФОНАДЫ, И ТОН ЗАДАЕТ БАЛАГАННАЯ НОТА».
И тон задает балаганная нота! А это сигнал: на любой поворот событий, в том числе печальных и трагичных, готов обрушиться смех. Балаганная нота сигналит о юморе, а без юмора – какой же Диккенс!
Да и какой балаган…
ПОГОВОРИМ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ
 Диккенс – любитель вещей. В бытность свою репортером он, конечно, бывал на аукционах, где шли с молотка самые разные вещи. И, будучи сыном джентльмена легкомысленного, очевидно, знал, как описывают имущество, потерявшее связь домашних предметов между собой и со своими хозяевами. Во всяком случае, в его романах вещи не только «выполняют свой долг» – любимая сентенция Диккенса, но и вводятся в состав причудливых композиций, мимо которых он пройти не может.
Диккенс – любитель вещей. В бытность свою репортером он, конечно, бывал на аукционах, где шли с молотка самые разные вещи. И, будучи сыном джентльмена легкомысленного, очевидно, знал, как описывают имущество, потерявшее связь домашних предметов между собой и со своими хозяевами. Во всяком случае, в его романах вещи не только «выполняют свой долг» – любимая сентенция Диккенса, но и вводятся в состав причудливых композиций, мимо которых он пройти не может.
Разумеется, он пристрастен к уюту. Чисто выметенный очаг, безупречно начищенный медный чайник. И уютное кресло, и скамеечка… Одним словом, весь очаровательный космос бытия, воспетый самим Диккенсом и сверчком на печи на два голоса.
А за углом жил некий маклер оценщик, а в его лавке мебель была выставлена в самом нелепом виде, в положениях и комбинациях, совершенно невозможных и чуждых их назначению. И вот – не угодно ли? Стулья прицепились к умывальникам, которые взгромоздились на плечи буфетов, взобравшихся, в свою очередь, на перевернутые обеденные столы, гимнастически задравшие ноги на других обеденных столах…
Вы, должно быть, решили, что эта сумасшедшая декорация, выстроенная Диккенсом, и есть место действия? Так сказать, оформление сценической площадки?
Ничуть ни бывало! Все это можно увидеть в окно мебельной лавки, проходя мимо и направляясь совсем в другое место, и вам никогда не догадаться, зачем мистер Диккенс задержал вас здесь безо всякой пользы для погружения в сюжет.
Но все-таки для чего-то? Может быть, следует задуматься над странным вторжением какой-то иной фактуры, к изложению событий не относящейся, вроде древесного гриба, ни с того ни с сего выросшего на дереве, которое вполне могло обойтись без него. И какое нам дело до свалки мебели в чужом переулке и к тому еще в чужой лавке. Не знаю. Право не знаю, только что-то тут есть, только что-то не случайно.
А может быть, именно про подобный «парад вещей» говорил Хармс: такого рода ряд есть ряд нечеловеческий и есть мысль предметного мира.
«Мысль предметного мира!» – это Диккенсу подойдет.
Тем более что эти гимнастические упражнения столов и умывальников, отказавшихся служить своему прямому назначению, отправят нас к итальянским комикам, под ними стул взрывается, стол взвивается, а тарелка макарон прилипает к потолку так, будто там ей самое место.
О ГЛАВНОМ
Диккенс не знает разницы между главным и второстепенным в своих книгах. Читатели обращали на это внимание, многих такое положение дел озадачивало.
«Миссис Хэррлис, – пишет Дж.Оруэлл – лицо вымышленное и в действии не участвующее, описывается с большими подробностями, чем любые три действующие лица, вместе взятые в обычном романе. Чуть ли не в середине предложения мы узнаем, например, что ее племянник-младенец выставлен на обозрение публики в бутыли на ярмарке в Гринвиче, вместе с розовоглазой леди, русской карлицей и живым скелетом».
О чем можно судить, ставя рядом эти «вторжения»? Не знаю, но могу предположить: Диккенс разрешает нам заглянуть в щель – а там открывается совсем другая действительность (если она – действительность).
Как мы видим, за той картиной мира, которую с беспримерной щедростью дарит нам Диккенс, таится что-то другое. Дж.Оруэлл – да и не он один – не понял, что же именно.
Следуя взятому курсу на Честертона, единственного, кто Диккенса «раскусил», вижу за текстами романов, знакомых с детства, читанных много раз, – вижу нечто отсылающее по известному адресу, а именно – к балагану и его аттракционам.
Вот что говорит Честертон, и для меня, как вы могли убедиться, это истина в последней инстанции. «Мы чувствуем эксцентричность мира, хотя и не знаем, где центр. Это ощущение владело Диккенсом, будоражило его мозг и сердце, словно в жилах его текла хмельная кровь эльфов».
Внимание! Далее – картина, изображающая, нет, испытавшая мазки красок этой самой эксцентричности.
«Улицы развертывались перед ним в поразительной перспективе, кувыркались домики, носы вырастали вдвое, а глаза вчетверо. Потому он был весел – только на гротеске может устоять философия радости».
И, наконец-то, про наш мир: «Он хорош не тем, что понятен и благоустроен, а тем, что непонятен и фантастичен».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Наш мир – самый лучший из невозможных миров».
Излишне говорить, что я вижу в этой прекрасной картине признаки, черты, наконец, улики Балагана.
И если только на гротеске может устоять философия радости – чего уж далее искать другой ответ на вопрос того же Честертона. Напоминаю: «Как мог этот добродушный Диккенс, этот розовый мечтатель, этот пошлый оптимист – единственный из современных писателей, кто уничтожил отвратительные социальные язвы и добился желанных реформ».
Так это же как раз балаганные трюки, дерзости, шуточки пущены в ход. И смех над негодяями балаганный, и желанных реформ добился, потому что умел вести себя не только как гневный обличитель, он еще и как гаер на раусе – высоком балконе над входом в ярмарочный балаган, кривлялся, измывался, дерзил.
ПОСТСКРИПТУМ С РОССИЙСКИМ УКЛОНОМ. ПЕТРУШКА И МИСТЕР ПАНЧ
Когда Стравинский впустил Петрушку с улицы в Серебряный век, Блок, ожидая крушения старого мира и уповая на ураган революции, говаривал – балаган-таран. В том смысле, что уж он-то сокрушит. Ну и так далее.
Но только что ни говори, а балаган в России был явлением окраинным, и высокая культура конца эпохи вдруг приняла его как откровение, настигшее наших серебряных гениев под занавес, можно сказать. Революция стояла на пороге, и скоро царскую семью отправят навстречу смерти.
А в доброй старой Англии, где давно отказались от варварской привычки рубить головы королям (о чем знал даже мистер Дик), все продолжала процветать ярмарка, если и не в том виде, как при Свифте и Диккенсе, то все равно что-то от нее в культуре оставалось. А великая английская литература доверяла выходкам Панча и умела над ними если не захохотать, то все же ценить их.
Дошло до того, что королева Виктория вместо того, чтобы примерно укоротить Диккенса Ч.С., который порою зарывался, позволяя себе скоморошьи выходки – читала, читала! И, надо полагать, внимательно, поскольку реформы после августейшего чтения и произошли.
Думаю, ярмарка сработала, попросту говоря. Скоморошество в стране, где скоморохов, шутов то есть, если память мне не изменяет, не били батогами, не топили и даже не сажали.
Сейчас вы скажете – уж больно благодушной тут получается страна Англия, Диккенса породившая. И будете абсолютно правы.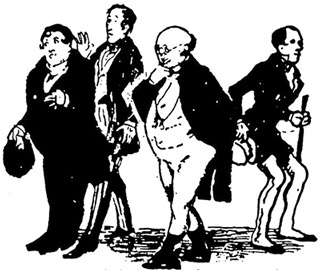
ЭТЮД О ДВУХ КРАСКАХ
О, как он, Диккенс, это умеет – упросить злодея снять маску и показать: добро и зло – двуликий Янус, и просто с этими делами нужно уметь обращаться, в том и весь фокус.
Диккенсу ничего не стоит взять да и замазать краской черной, как фабрика ваксы, портрет злодея, да так густо, будто других красок сроду не было в палитре балагана.
А следует заметить – именно балаган не нуждается в услугах тонкой живописи, и потому, когда дело дойдет до Добра, никто лучше него не пользуется белилами! Ну, просто белые маски, каждая еще белей, чем лик Пьеро. И он, Диккенс, исхитрился, как наш живописец Вайнберг, писать белое на белом, и таковы у него добрые братья в романе «Николас Никльби». Старые джентльмены, близнецы Чарльз и Эдвин Чирибл, настолько не отличаются друг от друга решительно ничем, что все их добрые дела как-то сами собой множатся на 2 и этим удвоением усиливаются.
Так и кажется, вот они говорят друг другу за утренней чашкой молока: Ну, хорошо, сегодня мы сделали доброе дело, а уж завтра!
И посрамленное Зло со своим ведром сажи может убираться куда подальше, утирая черные слезы ярости.
Только в балагане и возможны такие наглядные пособия, и они у Диккенса в ходу.
ПРИЗРАКИ БАЛАГАНА, или ПРИЗРАКИ КОМЕДИИ ДЕЛЬ АРТЕ
– От добродетели Эстер Саммерсон можно сойти с ума, – воскликнул Бернард Шоу, теряя терпение. Хочу ли сказать – он заблуждается? Увы, нет.
Эстер воистину безукоризненна. Оно, конечно, в человеке все должно быть прекрасно, но не до такой же степени! Ведь и само-му Диккенсу в конце концов пришлось прописать ей оспу, нанося на безупречный образ некоторые следы, по которым мы можем отличить ее от ангелов.
Вот только мне подсказали иную точку обзора территории романа и его глубин: что, если Эстер выпала из амплуа «голубая влюбленная» от комедии дель арте?
Ох!
Но это же вообще меняет дело, и дело вовсе не в безгрешности Эстер.
Дело в том, что в глубинах романа «Холодный дом», кажется, скрыты опоры итальянского балагана, конструкции идеальной в своем роде, и уж во всяком случае, загадочной. Но опоры надежны – прочней и быть не может.
А тогда – ищите парность случаев, закон таинственный и неотменный.
И тогда у нашей Эстер есть непременная пара, и это, разумеется, Ада. Обе они и есть пара влюбленных, им и предписана безукоризненность.
Ну а значит, ищите поблизости «пару влюбленных» (не решаюсь сказать – голубых). И они тут как тут: Ален Вудкорт, доктор, и Ричард Карстон, Аду обожающий с детства. И, однако, они палец о палец не ударят для того, чтобы добиться своих возлюбленных! Не спешите упрекнуть их в отсутствии любовного пыла. Таковы предписания Комедии итальянской, и они неукоснительны.
Более того! По тому же закону счастью влюбленных мешают зловредные старцы, которые порою и сами не прочь жениться. Ну и кто же тут у нас, в романе «Холодный дом», сей обязательный злодей? Да мистер Джарндис, добрейший, великодушнейший опекун. Из лучших побуждений (кто бы усомнился) он мешает соединиться Ричарду и Аде.
Еще из более высоких побуждений он нечаянно препятствует тайному стремлению друг к другу двух сердец, Эстер и Алена Вудкорта.
И чем более украшает Диккенс образ благородного мистера Джарндиса цветами добродетели, истинной и несомненной, тем неизбежней его удаление от каких-либо намеков на реализм. Ведь, как мы уже поняли, здесь проступают приметы комедии дель арте, а с ними не поспоришь.
И если узел событий окончательно нерасторжим – что ж! Его, оказывается, можно просто-напросто разрубить!
Алле-ап! Кто снимает повязку с глаз ос-
лепленных страстью старцев?
Вдруг мистер Джарндис прозревает.
Вдруг он выдает свою любимую Эстер за достойнейшего.
Вдруг он не проклял бедную Аду, когда она, наперекор здравому смыслу, ушла к возлюбленному, просидев в Холодном Доме лучшие годы.
Вдруг… Да нет же, у меня и в мыслях не было усомниться в абсолютном благородстве мистера Джардниса, поистине лучшего из смертных.
Ну что поделаешь, если они вдвоем с Диккенсом угодили в западню, расставленную итальянской народной комедией? А там… А там, как сказал Мандельштам об итальянских великих старцах: казуальная зависимость им чужда. Она годится свиньям на подстилку.
Но если дело обстоит именно так, кто-то должен «закручивать пружину», приводить в действие сюжет. И это никто иной, как Арлекин, вездесущий Арлекин, мастер интриг и поворотов сюжета, повелитель ситуаций и земных событий, и, говорили – не чуждый родству с инфернальными силами, что в нашем случае не так уж важно.
Да не сочтите недопустимой дерзостью заподозрить самого мистера Диккенса в роли Арлекина, но уж очень мастерски он управляет всеми сюжетами, впряженными в повозку. С ловкостью бывалого матроса он завязал судьбы многих своих героев тройным морским узлом, он же их и развяжет, приближаясь к завершению романа.
В подлинной Комедии в ответственную минуту как раз и появится Арлекин. И – старцы, которые заблуждались, вдруг прозревают. Прозрел ни с того ни с сего и мистер Джарндис. Ну а благополучным концам романов мистера Диккенса не обучать.
 БАЛАГАН ПИПА
БАЛАГАН ПИПА
– Однажды на ярмарке меня водили смотреть страшную восковую фигуру, – сообщил Пип.
Пип, мальчик Пип! Обыкновенный деревенский мальчик в грубых башмаках, с душою впечатлительной и нежной, однажды побывав на ярмарке – уж не посетил ли заодно и балаган, где могла идти пантомима?
Во всяком случае, пролог романа «Большие надежды» очень напоминает пантомиму с эффектами и ужасами. Там и кладбище, и ночь перед Рождеством – самое время
раскрываться могилам, и вот из-под земли вылезает великан, да такой страшный!
Ну, балаган – балаганом, а пролог «Больших надежд» поистине великолепен. Тут сирота Пип рыдает на могиле матери, а откуда ни возьмись – среди надгробий вдруг возник ужасный беглый каторжник. Он огромен и кровожаден, и он – людоед. Обещает съесть щеки Пипа и сердце, и закусить печенкой! Но можно откупиться, а выкуп называется «жратва».
И вот Пип со всех ног мчится в деревню, чтобы обворовать родной дом. Бежит обратно на кладбище с «выкупом» и, покормив страшного знакомца, спешит, наконец, домой, а ночь Сочельника убывает, и колокол возвестил начало праздника, а церковный хор уже славит Христа.
Ночь перед Рождеством позади, но!
Но все, что случится с Пипом потом, будет связано неразрывно с этой ночью. И в узелок со «жратвой» с круглым паштетом, остатками начинки и пузырьком бренди, оказались увязаны и Большие Надежды, Большие Деньги и – Великий Обман.
Нам остается лишь гадать – уж не шекспировы ли ведьмы той ночью опять сыграли злую шутку, только уже не с Макбетом, здоровым мужиком, а с Пипом, маленьким мальчиком, да простит ему Бог прегрешения вольные и невольные, и куда, собственно говоря, смотрел Диккенс.
Ответ очевиден – Диккенс смотрел в балаган. Чему есть доказательство, косвенное, но все же. Вот оно. «Едва только черный бархатный полог за моим окном стал светлеть», – сообщил Пип.
Помилуйте, где ж деревенский мальчик мог видеть полог черного бархата? Да только в балагане, я думаю. Мелочь, конечно, но у Диккенса чувство материала было, как у заправского мастерового.
