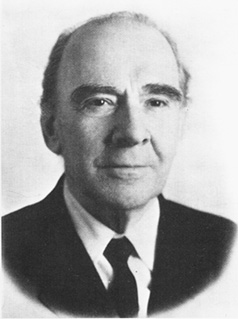 Продолжаем публикацию фрагментов воспоминаний известного переводчика Эллы Владимировны Венгеровой. Начало см. в №№ 20 и 24, 2014, № 7, 2015.
Продолжаем публикацию фрагментов воспоминаний известного переводчика Эллы Владимировны Венгеровой. Начало см. в №№ 20 и 24, 2014, № 7, 2015.
Бонди
Сергей Михайлович Бонди читал на русском отделении. Он был, что называется, старого закала и петербургского разлива и в гардеробе всегда занимал очередь за пальто. Это страшно льстило всей очереди, и она радостно пропускала его вперед. Он был из старой когорты пушкинистов, а курс его был посвящен русской поэзии. Мы, с романо-германского отделения, бегали к нему на лекции в Коммунистическую аудиторию. Бегали всего два раза. На третий раз нам это было строго запрещено, ведь по расписанию нам полагалось в это время сидеть на семинаре Неустроева и слушать про Клопштока. Есть такое уважаемое имя в истории немецкой литературы. Перу его принадлежит длиннющая религиозная поэма под названием “Мессиада”, которую не то что прочесть, но даже перелистать невозможно. Такая она скучная. Ничего скучнее Клопштока в немецкой литературе нет и не будет. Это было ясно еще в восемнадцатом веке.
О, сколько Клопштока хвалили!
Пусть нас бы так не возносили,
Зато прилежнее читали. –
Писал о нем Лессинг.
А Бонди объяснял, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Конечно, Ахматову на общей лекции он не цитировал. Ни Ахматову, ни Цветаеву, ни даже Пастернака в программах русского отделения филологического факультета еще не было. А уж о Мандельштаме вообще никто никогда не заикался. Студенты-русисты, конечно, эти имена знали. Например, Саша Морозов (он был на несколько курсов старше нас) вообще был помешан на поэзии Мандельштама и знал наизусть все, что тогда можно было где-то как-то раздобыть.
Что ж, оставался Блок. “Представьте себе, – говорил Бонди, – вы поссорились с женой, она разозлилась и хлопнула дверью. Что пишет по этому поводу поэт?
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Вот вам ключ к любой истинной поэзии”.
Поэзия возникает тогда, когда поэт страдает. А не тогда, когда он конструирует из слов строки, уповая на то, что из этих конструкций, пусть даже ловко зарифмованных, сами собой возникнут смыслы. После той лекции Бонди мне стало это ясно раз и навсегда.
Между прочим, мне попалась в руки программа курса по русской литературе ХХ века, который читали в то время в Сорбонне. Весь советский период был представлен лишь одной позицией: Иван Шмелев. “Человек из ресторана”. Прекрасное имя и великолепный роман. Но в советской литературе были и другие имена.
Кома
Кома – это ласковое прозвище. Дано было Вячеславу Всеволодовичу Иванову в детстве, потому что есть в его облике нечто шарообразное: а именно, круглая большая голова, вмещающая уникальный, глобально функционирующий интеллект. Кома знает множество языков, расшифровал хеттские и тохарские клинописные памятники и вообще он лингвист номер один urbi et orbi. Докторскую степень он получил сразу, как только раскрыл рот на защите кандидатской. Такова, во всяком случае, легенда, ходившая по факультету.
– Что случилось?
– Ничего, Вячеслав Всеволодович.
– Ну, как же, ничего. Вы были единственным человеком на факультете, который на вопрос: “Как дела?” отвечал: “Хорошо”. А сегодня вы сказали: “Так себе”.
Когда на факультете, как и во всей стране, началась эта дикая свистопляска вокруг “Доктора Живаго”, Иванов не отрекся от Пастернака, отказался его осуждать. Не потому, что он был с детства знаком с поэтом, а просто потому, что он не отрекся бы ни от кого другого, оказавшегося в положении Пастернака. Несколько лет спустя я присутствовала на заседании в Институте славяноведения, где Ученый совет несправедливо заваливал моего научного консультанта – специалиста по истории книги, дотошного, добросовестного и бесконечно трудолюбивого знатока своего предмета. Иванов был единственным, кто решительно встал на защиту бедного докторанта.
В 2013 году Иванов выступал в клубе “Читалка” на Покровке с чтением своих переводов. Я, конечно, бросилась туда, понимая, что у меня есть шанс еще раз в жизни увидеть самого гениального лингвиста советской и постсоветской эпохи. У меня возник один вопрос, и мне важно было услышать ответ именно от него. Прежде, чем я потеряю интерес ко всему на свете. Для начала я представилась, он меня узнал и вспомнил всю нашу группу: Ирину Белоконеву, Алика Карельского, Лешку Леонтьева.
– Вячеслав Всеволодович, – вопросила я. – Как, по-вашему, есть ли у человечества шанс сохранить знания и способы их передачи от человека к человеку? Или информация, скапливаемая в интернете, растворит их в море дурной бесконечности?
Иванов вздохнул, собрался ответить, но промолчал. Потом еще раз собрался с духом – и опять промолчал. А в третий раз только взглянул в зал. И в зале повисла долгая пауза. Я не стала длить эту пытку.
– Спасибо, Вячеслав Всеволодович, – сказала я. – Я Вас поняла. Такой вот был у меня с ним философский диспут.
Либан
Николай Иванович Либан вел семинары по русской литературе девятнадцатого века. Услышав от меня имя Либана, мама сказала: “Надо же, Колька Либан. Из нашей школы. Мы с ним из одной бригады. Нас обучали по бригадному методу, один мог отвечать за всех. Колька Либан за всю бригаду отвечал по литературе и истории. Передай ему от меня привет”.
Он не был ни кандидатом, ни доктором, ни профессором. Может, потому и дожил до глубокой старости. Другое дело, что русскую литературу он знал и преподавал лучше и интереснее, чем кто-либо еще. Мне довелось прослушать только одну его лекцию – о “Выстреле” Пушкина. Из нее я поняла, что прелесть Пушкина – не только в музыкальности слова, но и в геометрическом изяществе мышления. Что в основе любого из пушкинских текстов лежит совершенный, завершенный рисунок замысла, некое золотое сечение, не заметное читательскому восприятию, но тем сильнее воздействующее на него. Либан называл меня потомком (он имел в виду мою фамилию) и предлагал написать у него курсовую. О Чернышевском. Я попыталась. Для начала прочла диссертацию Чернышевского о понятии прекрасного и с грустью убедилась, что с аксиоматикой у нашего мученика слабовато. Какое-то подростковое гегельянство. “Прекрасное есть жизнь”. Разве это дефиниция? Я сдала позиции. Две курсовые я не потянула. Если бы хоть не Чернышевский…
Чемоданов
Николай Степанович Чемоданов преподавал готский, старый-престарый немецкий, очень похожий на современный. Настолько похожий, что мы уже на втором курсе легко прочитывали весь “Серебряный кодекс”, датируемый пятым веком нашей эры. Тем более что нигде, кроме как в этом кодексе, чудом сохранившемся крошечном отрывке Евангелия, этот самый готский и не существовал. Про Чемоданова было известно, что сначала он был марристом, потом отрекся от марризма в пользу великого корифея Сталина, а потом отрекся от сталинской теории языкознания, которая была вовсе не сталинская, но сплагиирована корифеем у известного русиста Чикобавы и кого-то еще. Но нам было не до того. Мне лично Чемоданов нравился, потому что он научил меня читать этот самый кодекс. А о том, какую трагедию пережил этот мягкий, благожелательный профессор, чтобы сохранить возможность читать мне курс готского, я тогда не задумывалась и не догадывалась.
Я недавно купила составленную им “Хрестоматию по истории немецкого языка”. Эта книжка, вышедшая в 1953 году, представляет собой истинный шедевр издательского ремесла. Сколько в ней страниц, напечатанных старинным готическим шрифтом с надстрочными и подстрочными знаками, лигатурами и нестандартными интервалами! Сколько иллюстраций, примечаний, пояснений, сносок, грамматических таблиц, словарных статей! Просто дух захватывает. Это какая же нужна была образованность и скрупулезность, чтобы такое чудо появилось на свет в те докомпьютерные времена. Я только теперь сообразила, что именно Чемоданов привил мне интерес к Гутенбергу и эпохе Реформации. Если бы не он, как бы я сумела перевести Хельмаспергеровский нотариальный акт (XV в.) и листовки, написанные Мартином Лютером и Томасом Мюнцером (XVI в.). Господи, как эгоистична, самоуверенна, высокомерна и глупа юность…
В старой книжке не указано имя-отчество Чемоданова, только инициалы, и ни слова о его научной заслуге. Это еще объяснимо, все-таки 1953 год. Но и Википедия его не знает. Благодарные потомки вовсе не благодарные. А самодовольные и необразованные.
В поисках радости
 Мама купила мне путевку на курорт. Я отправилась туда в обществе моей дачной приятельницы и однокурсницы Инны Говоровой со славянского отделения. Дом отдыха располагался в Туапсе. К морю вела крутая лестница. Туда идти – одно удовольствие. Переться обратно вверх – удовольствие сомнительное. Никто и ничто мне там не нравилось. Жариться на солнце – тоска зеленая. Во время экскурсии на озеро Рица меня тошнило. Само озеро, конечно, красивое, но убогая и не слишком опрятная шашлычная на берегу не внушала доверия. Шашлык какой-то подозрительный, кажется, свиной. Зато на столике стоял стакан с соусом ткемали. Я спрашиваю у мальчишки-официанта:
Мама купила мне путевку на курорт. Я отправилась туда в обществе моей дачной приятельницы и однокурсницы Инны Говоровой со славянского отделения. Дом отдыха располагался в Туапсе. К морю вела крутая лестница. Туда идти – одно удовольствие. Переться обратно вверх – удовольствие сомнительное. Никто и ничто мне там не нравилось. Жариться на солнце – тоска зеленая. Во время экскурсии на озеро Рица меня тошнило. Само озеро, конечно, красивое, но убогая и не слишком опрятная шашлычная на берегу не внушала доверия. Шашлык какой-то подозрительный, кажется, свиной. Зато на столике стоял стакан с соусом ткемали. Я спрашиваю у мальчишки-официанта:
– Сколько можно взять соуса?
– Сколько хотите.
И я поглотила все содержимое полного стакана. Никогда не ела и не пила ничего вкуснее. Таково мое единственное приятное воспоминание о поездке на курорт и об экскурсии на красивое высокогорное озеро Рица.
Мы с Инной гуляли под зонтиком по аллеям, и я терзалась угрызениями совести. Ну, как ей сказать, что я помираю здесь со скуки? Но я все-таки сказала, вымолила прощение, продала путевку и тайно вернулась в Москву в надежде, что еще успею в колхоз.
О колхозе я прочитала в факультетской стенгазете “Комсомолия”. Отчет о мероприятии принадлежал перу Инны Тертерян с четвертого курса. (Она потом стала крупным литературоведом и знаменитой переводчицей с испанского.) Может, ее литературный дар оказал на меня такое вдохновляющее воздействие, а может, курортное прозябание, но я вернулась в Москву. Все мои были на даче, комната, на счастье, пустовала. Не сообщив о своем побеге родителям, не тратя времени даром, я бросила у порога чемодан и бросилась на факультет. Мне повезло. Факультетская бригада уезжала на следующий день, меня включили в список, где уже красовались целых пять фамилий: Мельчук, Зализняк, Падучева, Федорцова, Шапошникова, и утром я уже сидела в автобусе, отбывающим в Можайский район. В автобус поместились аж две бригады: шестеро филологов и человек двадцать математиков (мы их называли мехматянами).
Рыжий, веснушчатый, словоохотливый и веселый Игорь Мельчук сходу пообещал рассказать нам семьсот четырнадцать анекдотов, каковое обещание впоследствии выполнил и даже намного перевыполнил. Мы приехали в колхоз под Можайском, и началось настоящее дистиллированное счастье, которое продолжалось целых две недели. Помню, как по утрам Андрей (он был бригадиром) будил нас зычным возгласом: “Пыыыдъем!”, и мы выскакивали из палатки, радостные и полные энтузиазма. Помню ведро – восемь литров парного молока, из коих четыре выдувал один Игорь. Ровные полосы поблескивающего на солнце скошенного льна (мы вязали из колосков маленькие пучки и оставляли их лежать на земле, это и была наша работа). Ученые диспуты среди льняного поля на глобально-лингвистические темы. Красивую армянскую легенду об Эчмиадзинском монастыре (однажды ночью нам поведал ее Игорь). Полученную от него же шокирующую информацию о существовании таких наук, как генетика и кибернетика (как все-таки это ужасно – залезать своими несовершенными мозгами в тайны природы). Чувство острой зависти к Падучевой (ей одной была доверена ребятами ответственная работа на комбайне). Тепло подмосковного лета. Тепло взаимных симпатий. Тепло доверия к жизни, к будущему, к друзьям и подругам и всему прекрасному миру под Можайском и под луной. Чего только не перечувствуешь в девятнадцать лет.
Потом был еще один колхоз, в тот же год, в начале первого семестра. Работали тоже под Можайском, но уже на картошке. И погода была дождливая, и земля грязная и мокрая, и картошка отнюдь не поблескивала на солнце, и бригада из двадцати или тридцати человек была с нашего курса, а, следовательно, никакого особенного интереса для меня не представляла. По вечерам играли в карты (не на деньги, конечно, так просто – в кинга). Никто особенно не спорил на филологические темы. Мой зычный крик по утрам (я была бригадиром) никого не вдохновлял на трудовые подвиги. Борька Абакумов подбивал всю бригаду бунтовать и манкировать, отдыхать и отлынивать, а по возвращении состряпал капустник, где вывел меня под именем Бригодяйки и где я орала истошным голосом: “Пыыыдъем!”, не вызывая у публики ни малейшего энтузиазма.
Языкознание
Андрей поступил на факультет, уже зная с десяток языков. В том числе латынь. Как я несколько позже выяснила, латынь он изучил из интереса к непристойным эпиграммам Марциала.
Он жил в старой одноэтажной развалюхе, превращенной в коммунальную квартиру, в комнате с печкой, низким потолком и огромной картой мира на стене. Однажды он, стоя перед этой картой и водя по ней школьной указкой, прочел мне лекцию по языкознанию. И пока он говорил о том, как перемещались по карте эти непостижимые субстанции, называемые языками, как они видоизменялись, влияли друг на друга, размножались, сливались и разъединялись, возникали, взрослели, старели, консервировались, умирали, исчезали из мира, я чувствовала себя гениальной, все постигающей и супер-полноценной личностью. Никогда больше ничего похожего я не переживала. Но это так, к слову.
А по существу, для иллюстрации тогдашнего нашего мироощущения, могу привести следующую историю. Был у Андрея одноклассник Мишка Рачек. Он учился, кажется в Нефтяном, но в науках не был силен. Зато обладал несравненным обаянием, перед которым не могли устоять даже институтские преподаватели. Они жалостливо натягивали ему оценки, в частности, по английскому. Но английский Рачеку никак не давался. Однажды он даже заявил, что если сдаст английский в очередную сессию, то женится. Приходит Рачек на экзамен, но плавает. Как говорится, ни в зуб ногой. Комиссия переглядывается и великодушно предлагает:
– Приведите нам хоть одно английское существительное с суффиксом ment и мы вам, так и быть, поставим тройку.
Рачек глубоко задумывается, вероятно, вспомнив свое матримониальное обязательство и, наконец, выкладывает козырного туза:
– Джентльмент!
Понятное дело, в тот раз он так и не женился.
Ну вот. Приходит Мишка к Андрею и требует:
– Андрей, скажи слово Бог на всех языках, какие знаешь.
Андрей перечисляет, Мишка загибает пальцы, считает языки. Досчитал до пятидесяти двух, кажется. Андрей вроде бы иссяк. Мишка кривит рожу, раскрывает принесенный с собой номер журнала “Наука и жизнь” и тыкает в него пальцем:
– Вот здесь пишут, что был один кардинал, который мог сходу произнести это слово на пятидесяти шести языках! И не стыдно тебе, Андрей? Не дотянул до какого-то кардинала!
Андрей обиделся:
– Так ведь слово Бог для кардинала – профессиональный термин. Предложи ты мне сказать слово член, я бы тебе его на ста языках назвал!
Приподнятая целина
В общем, в поисках утраченного восторга я при первой возможности отправилась на целину. Стояло жаркое лето 1956 года, до Казахстана товарный поезд, битком набитый студентами, тащился десять дней. Пять дней мы кружили вокруг Москвы, пять дней пересекали бескрайние просторы Союза. В вагонах, устланных сеном, было темновато, тесновато и душновато, и от всего этого долгого путешествия в памяти остался лишь один эпизод, впрочем, чреватый грустными последствиями. Подкатывает ко мне Стас Рассадин с русского отделения и говорит: “У меня тут есть одна книжка. Прочти”. Я и прочла, а это оказался запрещенный Бабель. Рассказ “Соль” так долбанул меня по душе и сердцу и голове, что я с ужасом вернула книжку Стасу, и он запрезирал и возненавидел меня навек и навсегда.
Ну вот. Мы приехали в Казахстан, в Каскеленский район, там степь да степь кругом и вокруг и везде и повсюду. Едем в грузовике, солнце жарит, дорога длинная, густая пыль толстым слоем покрывает лицо и конечности, впереди милые такие белые домики, но это еще не наша точка назначения, просто местный лепрозорий. Кто-то разлил по кружкам спирт, мне тоже досталась кружка, я выпила без всякого результата и наружного эффекта. Кто-то удивился, а я не поняла, чему и почему. Теперь и сама удивляюсь. Еще мы обнаружили в грузовике ящик сгущенки, принадлежавший лично нашему комсомольскому вождю, Артуру Ермакову. Он вез его конкретно и приватно для своей персональной, скажем так, спутницы.
Это обстоятельство вызвало у нас социальный протест. Мы проткнули все банки, кажется, найденным в грузовике гвоздем, и высосали каждую банку, все до единой. Банки остались лежать в ящике, а комсомольский вождь, как ни в чем не бывало, сглотнул этот факт. Он был умный парень. В зрелом возрасте редактировал аж всю Советскую энциклопедию.
Приехав на полевой стан, мы разместились в больших палатках-балаганах и приступили к сбору урожая. Работали, например, на току. Зерно, привезенное с полей, прежде чем складывать в бурты, нужно было лопатить и лопатить, чтобы оно не горело, то есть не портилось, не сгнивало, не прорастало, когда его сложат в бурты, а потом отвезут на элеваторы. Позволю себе напомнить, что температура воздуха в тот урожайный год достигала пятидесяти одного градуса по Цельсию, от чего некоторые чувствительные барышни-филологини иногда даже падали в обморок. Тени не было вообще. Мы создавали ее, втыкая лопату в зерно, но под такой тенью трудно было уместиться.
Мне и Кларке Янович с русского отделения досталась работа на комбайне. Вот когда я переплюнула Лену Падучеву. Она стояла на комбайне всего ничего, денька три по восемь часов, а мы с Кларкой – целых три недели по восемнадцать часов в сутки. Потому что наш комбайнер с Украины был герой соцтруда, приехал на сезон и спешил зашибить длинную деньгу. Он не удосужился починить педаль на копнителе, педаль заедало, нам приходилось прыгать в копнитель и выскальзывать из него вместе с половой, а потом догонять бегом уходивший вперед комбайн. Честно признаюсь, я иногда не успевала, поэтому Кларка героически исполняла этот трюк вместо меня. За что я ей буду признательна по гроб жизни. Но Клара – это отдельная песня.
Особая трудность нашего труда состояла в том, что колючие остья сыпалась на нас с трубы копнителя и застревали в лифчике, причиняя страшные неудобства. Нам понадобилось дней пять, чтобы отменить ношение этого совершенно ненужного аксессуара и работать в ковбойках на голое тело.
Однажды мы с Кларкой дезертировали с трудового фронта. Был уже второй час ночи, труба копнителя начала двоиться у нас в глазах, голова пошла кругом, руки-ноги задрожали. И когда за зерном приехал благосклонный к нам шофер Сашка, мы малодушно оставили трудовой пост и сиганули в нему в грузовик. И уехали в полевой стан. Мы не сомневались, что покрыли себя вечным позором, и нам грозит исключение из комсомола и всеобщее осуждение. Каково же было наше ликование, когда утром за нами прибыл наш герой труда и, как ни в чем не бывало, поинтересовался: “Ну, что, выспались, девушки?” Девушки выспались и радостно возобновили трудовую деятельность.
Мне понравилось на целине: мы собрали огромный урожай, я заработала восемьсот рублей. Нас свозили на экскурсию в уютный город Алма-Ату, где я на эти астрономические деньги (почти две повышенные стипендии!) накупила книг, которых невозможно было достать в Москве. Нас встречали приветственными трубами, литаврами и цветами.
На следующий год я опять поехала на целину. В этот раз мы спокойно доехали нормальным поездом всего за пять дней. Поезд пересек просторы нашей Родины, миновал тогда еще не до конца высохшее море Арал и углубился в бескрайние казахстанские степи. В открытые окна поезда широкими волнами вливалась сладкая вонь гниющих буртов сгоревшей прошлогодней пшеницы, так и не вывезенной на элеваторы.
Может, поэтому я и завалила в тот год экзамен по экономике социализма. Рассталась с надеждой на получение красного диплома и на построение социализма в какой бы то ни было стране.
