
Продолжаем публикацию фрагментов будущей мемуарной книги Марины Азизян. Начало – см. № 4, 2020.
Когда началась блокада Ленинграда, я очень пугалась бомбежек, мама старалась меня успокоить и придумала мне рассказывать, что привезли доски и сбрасывают их с машины на землю, поэтому так грохочет. Посмотреть в окно я не могла, потому что мой дедушка проложил пространство между рамами мешками с песком, чтобы уберечься от осколков. Окна квартиры выходили с одной стороны на Малую Неву, а с другой во двор. Обстреливалась больше та сторона, которая смотрела на реку, поэтому мы все жили в комнате, выходящей во двор. Я была маленькая, но в памяти осталось одно время года: темное, холодное и голодное. Какое-то время нас спасал столярный клей, еще до войны он был запасен дедом для чего-то. Хорошо помню деревянную бочку, где размокали плитки столярного клея, и моего любимого дедушку, который методично размешивал деревянной скалкой этот клей, а потом отпускал скалку, а она продолжала крутиться по инерции. Меня это веселило, но не помню, чтобы я громко смеялась, наверное, дед, жалея меня, хотел чем-то развлечь. Мама служила в войсках ПВО, дежурила на крышах. Позже она работала в отделении Ботанического сада, оно располагалось сразу за Тучковым мостом, где теперь находится дворец спорта Юбилейный. Работала просто рабочим, но по дороге собирала лебеду, из нее бабушка делала лепешки.
Дома у нас не очень любили вспоминать и рассказывать про блокаду. После окончания блокады мама отправила меня в детский дом. Я оказалась в Йошкар-Оле. Мама, конечно, думала, что я там отъемся, но этого не случилось. Голодали мы там чуть меньше, чем в Ленинграде, но никак не удавалось наесться досыта, и мы бродили вокруг вагонов, в которых жили, в поисках какой-то травки, которую можно было жевать. Чаще всего находили кислицу, ели листики, у клевера высасывали из цветков что-то сладковатое, обычно кто-нибудь пробовал, и если травка оказывалась не горькой, все накидывались на эти пучки, выдирали все дочиста. Но иногда кончалось общим поносом.
Вы не моя мама?
Путь до Йошкар-Олы был очень долгий и трудный. В памяти осталась зима, ночевка в каких-то избах на полу, потом нас загружали в поезд, не помню, сколько нас, ребятишек, было. Спали вповалку в пальто и шапках, отчаянно завшивели, одичали. Помню свою безропотность, команды: “подъем! строиться!” выполняла, боясь наказаний. Прибыли на окраину или куда-то рядом с городом, степь ровная и не украшенная никакими деревьями или кустами, заброшенная железнодорожная ветка, на ней стояли вагоны, из труб шел дымок, вагоны делились на вагоны для мальчиков и для девочек. По нашему виду, в этих фигурах, замотанных платками, шарфами поверх шапок, трудно было определить, кто из нас какого пола. Когда подошла моя очередь залезать в санитарный вагон, меня спросили: “Мальчик, а тебя как зовут?”, и тут я почему-то обиделась и замолчала надолго. Документы пропали в дороге. Молча дала побрить себя наголо; не меня одну, всех нас побрили. Потом разглядели, что я девочка, определили мне боковое место в вагоне, но все-таки я продолжала молчать. Стали называть меня Мариной, и я постепенно привыкла, стала откликаться. Обитатели детского дома были из разных городов, приблизительно одного возраста, худенькие, голодные и недобрые. Воровали все, что не приколочено, и были совершенно безжалостны друг к другу. Нас как-то кормили, но у многих была дистрофия, у меня она тоже была и продолжалась после войны еще довольно долго. Есть всем хотелось всегда, кто-то однажды крикнул: “Картошку привезли!”, и мгновенно ноги мои не просто побежали, а легкое мое тельце поднялось в воздух, и я просто перебирала ногами в воздухе, лишь иногда на мгновенье, касаясь земли. Быстрее я никогда не бегала. Грызли картофелины прямо с землей, пока на нас не налетела сестра-хозяйка и не разогнала. На какой-то праздник нам выдали по конфете, и я, решив растянуть удовольствие, спрятала ее под подушку, но утром конфеты под подушкой не оказалось… Я была в полном недоумении, тогда мне еще неведомо было воровство.
Над моей боковой полкой было окно, а на стенку я прикрепила маленькую фотографию мамы, которую она вшила в кармашек моей кофты. Каждый вечер я молилась, глядя на маленькую фотографию, просила Бога, чтобы мама была жива. Не знаю, кто меня приучил молиться, наверное, дедушка с бабушкой, они не только молились в холодные блокадные дни, но и пели церковные песнопения. Но однажды я забыла помолиться, подняла голову (что было строго запрещено делать после отбоя), взгляд мой устремился за окно, и то, что я увидела за окном, сделало меня неподвижной на какое-то время. В степи пробивалась первая весенняя травка, огромный красный шар солнца еще ярко горел на самом краешке земли и стадо розовых овец, опустив свои головки, щипало траву. Раньше я таких не видела. Может быть, это был мой первый восторг от того, что возникло перед моими глазами, от жизни. Счастье сверкнуло мне своим пронзительно ярким лучиком! Но тут же я была наказана за то, что подняла голову с подушки. Строгий голос нянечки: “Ты забыла правила поведения? Будешь помнить! Вставай! Пошла!”. В наказание меня выгнали в тамбур и закрыли за мной дверь. Соседний вагон был вагоном мальчиков, и двоих тоже выставили в тамбур. Тут мы и встретились, и, как сейчас сказали бы: мальчики “по полной оттянулись”. Поиздевались надо мной, хватали за волосы, залезали лапами своими под рубашку, они были постарше, и отпор им я дать не могла, они ржали, зверели, когда я пыталась отбиться от них, пока я не завопила, и мне не открыли дверь в мой вагон. Воспитательница строго напомнила правило: после отбоя голову с подушки не поднимать! Но все-таки розовые овцы остались в памяти навсегда!
Воспитатели менялись очень часто, и когда новая тетенька появлялась, к ней навстречу стремглав летели дети, повисая на ней гроздьями, ухватив за шею, цепляясь за нее с криками: “Вы не моя мама? Вы не моя мама?”. Бывало, за кем-то приезжал родитель или родственник, тогда счастливчика ребята от обиды избивали – за то, что изменил сиротскому братству. Мой дедушка смог разыскать адрес детского дома, куда я попала. Это было не просто, и он послал за мной мою тетю – Клавдию Ивановну. Когда она появилась в конце вагона, где мы жили, я кинулась вместе со всеми, повисла на ней и узнала знакомую пуговицу на кофте, помню ее до сих пор (она была круглая, черная, лакированная, с рисунком-штампом “под вышивку” крестиком). Ребята почему-то не избили меня на прощанье. И сейчас – спасибо им за это!
Соколовы, Салтыковы
Настасья, Настенька, Нана, Анастасия Ивановна Соколова родилась в Кронштадте в 1913 году, в феврале. Залив был скован льдом, Петербурга не видно. До революции оставалось всего четыре года. Настя была самой младшей в семье. Отец ее – Иван Яковлевич Соколов работал инженером-гидростроителем. Ее мать – Елена Васильевна (в девичестве Салтыкова) была домашней хозяйкой, воспитывала трех дочерей и одного сына. Родом оба были из Тверской губернии. Бабушка из Старицы, дедушка из деревни Сотчино, что в тридцати километрах от Старицы. Отец деда – мой прадед Яков Егорович Смирнов-Соколов – был богомазом, золотильщиком куполов церквей, изобретателем замков и ключей к ним, прабабушка Анисья Ивановна Соколова была крестьянкой, воспитывала четырех сыновей. Родители бабушки принадлежали купеческому сословию, Василий Семенович Салтыков – отец, и мать – Анастасия Васильевна произвели на свет двух дочерей и сына. Жили они недалеко от монастыря, в добротном доме на горе, совсем недалеко от Волги. В Старице было 32 храма, в праздники над городом стоял многоголосый перезвон всех церквей. Кроме церковных праздников существовал там праздник Лошади. Как рассказывала бабушка, их украшали венками из цветов, вплетали яркие ленты в гривы, копыта красили золотом и серебром, угощали, купали в реке, пели песни, кружились вокруг них хороводами. Дед мой уверял, что его дед Егор встретил однажды Пушкина в коляске, когда Александр Сергеевич направлялся в Малинники, и тот спросил Егора: Сколько времени? Егор же ему ответствовал: Часов, барин, не держим! Александр Сергеевич подарил ему часы, а потом, встречая его всякий раз, когда проезжал мимо, спрашивал: Который час, Егор? – А тот с достоинством доставал цепочку с часами и с поклоном отвечал ему. Так рассказывал дедушка, и, как говорится, за что купила, за то и продаю! Но мой дед, в отличие от бабушки Елены Салтыковой, не склонен был к мифотворчеству. Поначалу он пошел по наследственной линии – стал золотильщиком куполов церквей и однажды, обходя купол по окружности, будучи привязанным канатом к кресту, сорвался, упал, остался жив, но заработал себе туберкулез. Уехал в Петербург, лечился и получил образование, стал инженером-гидростроителем. Строил Кронштадтский порт, Волховстрой, Днепрострой, работал под началом знаменитого инженера Генриха Осиповича Графтио, которого с теплотой и почтением часто вспоминал. И с гордостью как-то рассказал, что Калинин, приехавший на стройку, пожал ему руку. Наград у деда не было, но он очень гордился тем, что стал персональным пенсионером, очень ему нравилось это прилагательное, он трактовал это как присуждение звания. Однажды я пригласила его пойти со мной в Театр Комедии на спектакль, поставленный моим учителем Николаем Павловичем Акимовым. В антракте, прогуливаясь по фойе, встретив Николая Павловича, обращаюсь к нему, указывая на деда: “Познакомьтесь, это мой дедушка”. Дед был худощав, всегда с прямой спиной, седые волосы, бородка клинышком и усы, аккуратно подстрижен, голубые глаза светились радостью. Глядя на учителя, протягивая ему руку, он с достоинством и почтением произнес: “Иван Яковлевич Соколов!”. Ответ учителя соответствовал предложенному стилю: “Очень рад! Николай Павлович Акимов!”. В фойе было многолюдно, и многие знакомые и незнакомые зрители хотели поздороваться, приветствовать моего прекрасного учителя, поэтому знакомство тем и ограничилось.
Риммочка, мухоморы и анютины глазки
Высокая, красивая, лучезарная Римма Юношева работала главным художником нашего цирка, раньше он назывался цирком Чинизелли. Мы были с ней очень дружны, и я с удовольствием приходила в ее рабочий кабинет, чтобы она провела меня к зверям, которые выйдут сегодня на арену, да и вообще я очень любила представления, которые они сочиняли с Алексеем Сониным – главным режиссером цирка. Римма была предана своему служению, и она так хорошо чувствовала масштаб этого прекрасного архитектурного сооружения, что я ее называла монументально-главнейшим художником цирка. Щедро, по-матиссовски ярко, радостно написанные занавесы распахивались, чтобы выпустить клоунов, акробатов, лошадей, собак, медведей, воздушных гимнастов, которым Юношева сочиняла костюмы. Она придумывала легко, артистично, ее эскизы, казалось, делались почти шутя. Кроме того, что ей необходимо было сделать для цирка или для театра, она постоянно рисовала, писала портреты друзей, пейзажи, своих собак.
Однажды мы вместе отдыхали в Крыму, Риммочка заплывала в море так далеко, что ее уже не было видно с берега. Всякий раз она пыталась меня уговорить плыть с ней, но с тех пор, как в детстве чуть не утонула в Неве, я стала бояться глубины. “Какая же ты Марина? Поплыли со мной вдоль берега, но на глубине, ничего не бойся, я рядом”. От нее исходил такой покой, и мы плыли мимо санаториев на берегу, проплывали чужие пляжи, разговаривали, смеялись, и я впервые почувствовала радость от морской прогулки.
Но лес я все-таки всегда любила больше. Домашние меня приучили ходить за грибами, дедушка и бабушка были страстные грибники, да и мама тоже. Бабушка, когда солила или мариновала грибы, обязательно на банку прикрепляла бумажку, на которой было написано, когда и где собраны грибы. “Грибы собраны по дороге на Щучье озеро 3-го сентября 195… года” или “на берегу озера Красавица недалеко от развилки”. Зимой они с дедом спорили до отчаяния, куда ведет какая-то дорожка. Одним словом, я полюбила лес, сняла как-то сарайчик в Зеленогорске и пригласила Риммочку приехать ко мне. И у нее, и у меня была какая-то работа для театра, поэтому с собой были кисти, краски, бумага. Утром, просыпаясь, я провокационно спрашивала у подруги, что мы будем сегодня делать, и, как правило, она со сказочной интонацией доброй волшебницы произносила: “Мы идем в лес!”. Места эти я знала неплохо, поэтому мы шли по направлению к горе Пухтала, название которой придумали еще финны. Под вечер мы возвращались домой, высыпали из корзин грибы на столик в саду, чтобы почистить их. Тут я поняла, взглянув на собранные Риммой Михайловной грибы, кто из нас обладает неоспоримым живописным даром, кто настоящий художник, а кому еще надо работать над умением видеть цвета и учиться гармонии. Коллекция поганок и ядовитых грибов была подобрана по цвету, безусловно, очень талантливо. Она с нежностью смотрела на кучу своих грибов, а я решительным жестом смела их со стола в траву. Бедная, она брала в руки мухомор и просила меня взглянуть, чтобы я поняла, что поступила жестоко. Потом с вопрошающим взглядом она показывала мне ложные лисички, бледные поганки и какие-то неведомые фиолетовые грибы с розовой юбочкой на тоненькой серой ножке. Там, в саду, около сарайчика, не очень далеко от станции, состоялся первый мастер-класс для юного грибника Юношевой. Теперь, когда я ей объяснила, что к некоторым грибам нельзя даже прикасаться, она звала каждый раз меня, через весь лес, чтобы я помогла определить, можно ли ей сорвать этот гриб и как он называется.
В городе мы часто разговаривали по телефону, звоню ей с жалобами: то мне режиссер не нравится, то гроза, то денег нет, настроение плохое, в ответ слышу молчание в трубке. Спрашиваю: “Ты слышишь меня?”. “Да! У меня на балконе анютины глазки расцвели!” – выслушав мои глупости, произносит Риммочка со своей неповторимой нежнейшей интонацией, и я тут же прихожу в себя и понимаю, что подруга у меня не просто художник, но и замечательный психотерапевт. Однажды вспоминали с ней чудаков нашего города, которых замечали на Невском проспекте, на Васильевском острове. Может быть, не совсем правильно их называть чудаками, некоторые были просто странными, экзотическими персонажами. Был человек, которого я много раз видела едущим на одноколесном велосипеде без руля, руки его были скрещены на груди, ехал он с прямой спиной, обычно встречала его около моста Лейтенанта Шмидта (ныне – Благовещенского). На Невском проспекте молодой человек, с лицом, загримированным под Мефистофеля, выходил постоять на остановке автобуса, но никогда не садился в него. И “Мефистофеля”, и человека на колесе видела только я, однако, существовал странный персонаж, которого мы с Риммой много раз встречали в магазинах, где торговали букинистической литературой. Худенький человек прохаживался между полок, не старый, но и молодым его трудно было назвать, заглядывал через плечо на книги, которые кто-то рассматривал, никогда ни к кому не приставал, но бегло с кем-то иногда здоровался, вернее, молча кивал. У него всегда был маленький прутик или шнурочек, который он постоянно крутил в руке. Походка – чуть пританцовывающая, особенно, когда ему на улице надо было обойти человека: он легкой перебежкой делал несколько шагов в сторону, потом опять выравнивал свой путь по прямой и двигался дальше. Казалось, он узнает людей, которые ему не первый раз встречались. Иногда он забредал во Дворец искусств, появлялся на открытии выставки, промелькнет с прутиком в руке, покрутит его и так же исчезнет, ни к кому не приставая с разговорами, да и голоса его мы никогда не слышали. Когда мы приехали на Серафимовское кладбище, чтобы попрощаться с Риммочкой, я увидела его в толпе людей, направляющихся к храму, он шел с прутиком в руке, молча и ни на кого не глядя. Я думаю, Риммочке бы это понравилось.
Чечня – заходи!
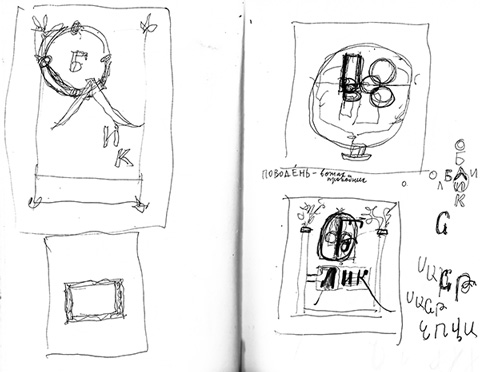
Мастерская Давида Боровского в Театре на Таганке помещалась в маленькой комнатке, на стенах висели чертежи, какие-то записочки, рисунки, прикрепленные кнопками, фотографии. А на полу, под подмакетником – куча скомканных бумаг, черновые эскизы, чертежи, планировки, но только хозяин твердо знал, что там лежит, и при необходимости безошибочно запускал руку в эту кучу и безошибочно выуживал оттуда то, что ему было нужно в данный момент. Давид был красив той античной красотой, которую мы знаем по статуям в Эрмитаже и Лувре, при этом одевался он очень обыкновенно, как все, но на нем все самое обыкновенное выглядело артистично. Трудно вспомнить его в пиджаке, кажется, он надел его один раз, когда надо было идти на прием в министерство культуры или куда-то выше. Он надел пиджак, а на голую шею повязал галстук. Это сейчас ходят в шляпах, кепках, руки в карманах и вообще, как кому заблагорассудится, тогда же, в 1970-е годы, это расценивалось как вызов. Говорят, что Боровский очень любил хорошую обувь, знал в ней толк и покупал ее за границей. Как-то он пригласил нас с Анаит Оганесян к себе домой. Мы позвонили в дверь, Давид широко распахнул ее перед нами с радостным приветствием: “Чечня! Заходи!”. В прихожей я увидела кучу обуви, перемешанные друг с другом ботинки с сапогами, штиблеты мужские кожаные, замшевые, туфельки на каблучке, серый ботинок, черный, белые лакированные женские босоножки – огромная куча, где трудно было найти пару, но легко хозяин находил те штиблеты, в которых ему захотелось бы сегодня шагать по делам.
Мастерскую, которую он получил к концу жизни стараниями друзей, сейчас сделали музеем. Очень привлекательное пространство, где выставлены макеты Давида Львовича, все устроено достойно, как того заслуживает великолепный художник театра, но кучи обуви, сваленной в прихожей, конечно, нету.
<…>
Вспоминаю декорацию к спектаклю “Гамлет” – тяжелый занавес, сплетенный из канатов и веревок, имеющий значительные размеры и толщину. Мне кажется, он был размером почти с зеркало сцены Театра на Таганке. Был он естественного цвета веревок, из которых был сплетен, но не плотным, в рисунке переплетений имелись просветы. Подвешен он был на металлической ферме и мог двигаться от арьерсцены к авансцене, разворачивался в центре сцены, останавливался в положении перпендикуляра к рампе, чтобы потом плавно и величественно проплыть от правой кулисы к левой, волоча свой шлейф по доскам планшета. Можно пересказать, изобразить на планировке движение занавеса, но ощущение мощной эпической поэзии времени и пространства давало зрителю повод думать о главном. Конечно, был гениальный поэт Высоцкий, кожей чувствующий ритмы движения этого занавеса, когда он шел впереди его, а за занавесом двигалась свита короля.
В спектакле “Обмен” Давид Боровский выстроил некий алтарь из шкафов, комодов, тумбочек, шифоньеров, а за ним сзади на экране шло телеизображение фигурного катания – то, чем очарована была страна в брежневские времена. Действие в спектакле “Молли Суини” в Малом драматическом театре Европы у Льва Додина происходит около дома, где живет семья. Плавательный бассейн без воды, дно завалено сухими опавшими листьями, площадка огорожена металлической сеткой, а в пространстве за бассейном стоят плетеные пляжные кресла, похожие на коконы, в них можно обрести покой и уединение. Татьяну Шестакову, которая играет ослепшую героиню, Давид одевает в ярко-красное пальто. И это наблюдение художника: слепых одевали в яркие одежды, чтобы не толкнули случайно, помогли.
Макет к спектаклю “Чайка” очень немногословен: две-три вертикальные дощатые стеночки, между ними висит на веревке забытая выцветшая тряпка, конец которой вмерз в небольшой водоем. Грустно, что поэзия, которую нам являл на сцене Давид, исчезнет с окончанием жизни спектакля. Это не стихи, остающиеся на бумаге.
Еще одно воспоминание о спектакле в петербургском БДТ – “Игра в карты”, где два старика живут в привилегированном интернате, куда отправили их состоятельные дети. Боровский выстроил на сцене мраморный дворец, похожий на античный храм или великолепный склеп, где актеры передвигались на инвалидных креслах.
Художник Боровский обладал каким-то необыкновенно отзывчивым сердцем, так он читал пьесы, так он относился к коллегам. Первым приезжал с шампанским к Валерию Левенталю, чтобы поздравить его с получением звания, хотя сам еще не имел его. На какой-то выставке подошел к работам Юры Кононенко, приветствовал его очень нежно и серьезно словами “Ты наш бриллиант!”.
У меня в мастерской висела красивая рама красного дерева, разделенная на восемь частей тоненькими позолоченными рамками. Это была часть домашнего иконостаса, который принадлежал достойной даме, после смерти которой родственники распродавали ее вещи. Я еще не знала, что делать с этой рамой, чем ее заполнить. “Я бы вставил туда фотографии своих друзей”, – посоветовал мне Давид. Когда вышла первая книга Риммы Кречетовой о Давиде, он специально приехал в гости к Анаит Оганесян, у которой я гостила, привез две книжки, чтобы вручить нам. Мы это очень оценили, потому что он нашел время, уважил нас, да и само по себе его появление для нас уже было щедрым подарком. Он был счастлив появлению этой книги. Потом выйдет книга, которую он напишет сам и назовет “Убегающее пространство”. Но он ее уже не увидит.
6 апреля 2006 года в 4 часа утра в столице Колумбии умер Давид Боровский. Богота – столица Колумбии выше уровня моря на 2600 метров, самолет летит туда 20 часов. Его отговаривали друзья, но он обещал сделать там свою персональную выставку, которая была в программе фестиваля театрального искусства России. А обещал он человеку, который помог ему в непростой жизненной ситуации и устроил его главным художником во МХАТ. На сцене МХАТа с ним прощались в декорациях его последнего спектакля “Вишневый сад”. С большой фотографии Давида Львовича, которая висела над сценой, смотрело лицо умного человека, печальное, рука на подбородке – какое-то ощущение, как будто он перед смертью взглянул на жизнь, и это был взгляд взрослого, мудрого человека. Голова Давида была вылеплена гениальным Скульптором, как будто это слепок Библейского человека. Мне запомнились слова Анатолия Мироновича Смелянского: «Каждый из нас думает про себя: “Я есмь”. Когда Давид смотрел, слушая собеседника, глаза его говорили: “Ты есмь!”».
Спасибо тебе, Давид за уроки замечательного вкуса и в твоих работах, и в твоем отношении к друзьям, да и к недругам тоже.
Марина АЗИЗЯН
«Экран и сцена»
№ 6 за 2020 год.
