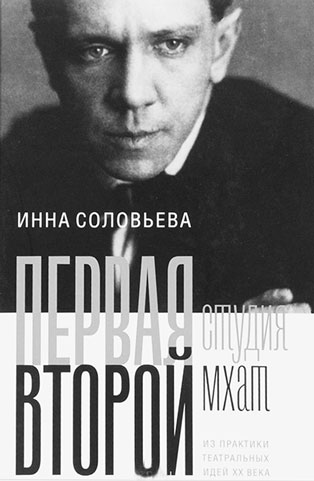 Нельзя сказать, что МХАТ Второй затерялся в истории. Есть классические тексты Павла Маркова, двухтомник Михаила Чехова, мемуары Софьи Гиацинтовой, Серафимы Бирман, Алексея Дикого. Архивные документы включены в состав ленинградского издания «Советский театр: Документы и материалы» (1975, 1982). Безусловным событием недавнего времени стала книга энциклопедического типа «МХАТ Второй. Опыт восстановленной биографии» (2010), состав-ленная, а во многом и написанная, Инной Соловьевой. В нее вошли и творческие биографии второмхатовцев, и портреты спектаклей, и Летопись, и раздел «Документы».
Нельзя сказать, что МХАТ Второй затерялся в истории. Есть классические тексты Павла Маркова, двухтомник Михаила Чехова, мемуары Софьи Гиацинтовой, Серафимы Бирман, Алексея Дикого. Архивные документы включены в состав ленинградского издания «Советский театр: Документы и материалы» (1975, 1982). Безусловным событием недавнего времени стала книга энциклопедического типа «МХАТ Второй. Опыт восстановленной биографии» (2010), состав-ленная, а во многом и написанная, Инной Соловьевой. В нее вошли и творческие биографии второмхатовцев, и портреты спектаклей, и Летопись, и раздел «Документы».
И в тот момент, когда просвещенный читатель на вопрос о МХАТе Втором был готов ответить «знаю-знаю», Инна Соловьева выпустила семисотстраничную монографию «Первая студия. Второй МХАТ: Из практики театральных идей ХХ века» (М.: НЛО, 2016). В этой книге захватывают не только открытия, но и сам ход исследования, лексический состав текста.
Вершины густонаселенного повествования – Леопольд Сулержицкий, Константин Станиславский, Евгений Вахтангов, но главное место занимает Михаил Чехов – не случайно именно его фотография вынесена на обложку. Место настолько значительное, что его отъездом из России в 1928 году завершается монография. Об этом можно только сожалеть, ведь неохваченными остались существенные сюжеты, в том числе закрытие театра в 1936 году.
Исследование опирается на огромный массив архивных источников, что совершенно естественно для Инны Соловьевой. Не перестает удивлять, однако, то, как сухие строки документов наполняются здесь нервами, надеждами, разочарованиями, болью. Архивные мощи превращаются в живой организм, где все взаимосвязано.
Двойная оптика – взгляд изнутри и снаружи – для историка обязательна, хотя и не всегда достижима. Инна Соловьева к обязательному добавляет редкую способность вчувствования, вживания в людей и ситуации. Она движется по жизни МХАТа Второго как-то по-домашнему легко, зная ее наощупь. Даже если в комнате темно, рука помнит, где выключатель.
В книге великое множество сюжетов, больших и малых, но практически всегда побуждающих к диалогу. Но газетный формат ограничивает автора рецензии.
Жизнь Первой студии полна отсветов и отзвуков, ближних и дальних связей. Автор обращает внимание на то, что ввод Михаила Чехова в «Двенадцатую ночь» на роль Мальволио происходил на фоне репетиций «Эрика XIV». И эти два «потерявших себя» персонажа неожиданно начинают перекликаться и «зеркалить». Автор замечает, как в эскизах Игнатия Нивинского к «Эрику XIV» отзывается его увлечение архитектурными фантасмагориями Пиранези.
О том же спектакле сказано: «Чехов дал Эрику нестерпимо личное переживание мира как реальности, направленной против тебя, лично тебя ненавидящей, по отношению к тебе предательской» (с. 298). Сказано сильно. Из чего выведено – не ясно. Свидетели об этом не писали. Но их описаниям не противоречит. После Павла Маркова никто не достигал такого глубинного и тонкого понимания игры и личности Михаила Чехова.
При всей целостности феномена «Первая студия – МХАТ Второй» он соткан из сложнейших, подчас причудливых отношений, из притяжений и противостояний: Вахтангов – Сулержицкий, Вахтангов – Станиславский, Михаил Чехов – Вахтангов. Все эти сюжеты сплетены в драматический узел. Творческий союз Вахтангова и Чехова, казалось, был тесен. Не совпали во взглядах только на «Архангеле Михаиле», о чем и сами старались не вспоминать. Но Инна Соловьева обнаруживает глубинное расхождение в понимании актерской техники.
Давняя идея Вахтангова «максимального сближения личности актера и личности персонажа пьесы», опробованная в «Росмерсхольме», была воплощена Чеховым в Эрике с необычайной и опасной силой, переступающей запретную черту. Из письма Чехова Андрею Белому: «на последнем “Эрике”, например, дело дошло до того, что, когда я изображал умирание Эрика, <…> я понял, что я не играю, но что это в действительности происходит, и не с Эриком, которого и нет физически, а со мной». Автор книги буквально по дням прослеживает, как Чехов отдаляется от роли, признанной гениальной, и передает ее Александру Гейроту. Легкий, танцующий театральный язык не спасал от экзистенциального хаоса. Вероятно, поэтому приемы, предлагавшиеся Рудольфом Штайнером, основанные на вызывании образа из надличной реальности, были для Чехова спасительны – они позволяли уйти от себя.
С премьерой «Эрика XIV» Вахтангов родился как вождь. Но само понятие вождя в Первой студии не предполагалось. Вахтангов толкал туда, куда не всем хотелось, что создавало напряжение. Но дело не только в амбициях Вахтангова. Сама студийность как своего рода народовластие переживала кризис. Рождение театра из духа студийности происходило драматически и травматически. Так, крах Мансуровской студии стал одной из причин смертельной болезни Вахтангова. Воспоминания Б.Е.Захавы и Л.М.Шихматова о событиях 1918 года позволяют сделать такой вывод.
Что же касается Первой студии, Гейрот записал слова Вахтангова на заседании по вопросу объединения с Художественным театром (28 ноября 1921): «…труппа Первой студии – единственная труппа в России, способная создать что-либо. Тут же явились противоречия, он сам же констатировал смерть студии» (с. 317). И далее «…стали раздаваться голоса о смерти, это говорил и Сушкевич, о том, что мы – покойники» (там же).
Вероятно, для того чтобы написать такую книгу о Втором МХАТе, нужно было всю жизнь заниматься старшим МХАТом. Так тщательно и увлекательно прописаны Инной Соловьевой все связи с родительским гнездом, даже восходящие к тем временам, когда еще и студии не было, сохраняющиеся даже в пору отчуждения и формального обособления.
А в 1921 году Станиславский делает предложение немыслимое, фантастическое: «План Константина Сергеевича – передать дело театра Первой студии» (из письма Вл.И.Немировича-Данченко).
МХАТ Второй, родившийся из студии, сохранял студийные предубеждения. Недооценивали значение художника. Обходились домашними силами. Единственный раз при Чехове пригласили варяга – Борис Кустодиев, да и то по инициативе Алексея Дикого, считавшегося оппозиционером. И это в пору, когда на других сценах блистали плеяды талантов самых разных художественных течений. По-студийному недооценивали режиссерское авторство. Программные для Чехова спектакли («Гамлет», «Петербург») ставили коллективными усилиями. Как замечает Соловьева, «в нелюбви к театру-делу он [М.А.Чехов] наследовал Сулержицкому» (с. 412). Но Сулержицкий, когда понял, что Первая студия движется к театру, подал в отставку (сохранился черновик его письма Станиславскому от 27 декабря 1915 года), тогда как Чехов, не любя театр как дело, решился его возглавить.
Многие, в том числе и я, уверовали в презумпцию правоты гения, и соответственно неправоты всех тех, кто был с ним не согласен. Соловьева в полной мере воздает актерскому гению Чехова, но одновременно с мудрой деликатностью показывает несостоятельность его как руководителя, ведущего не театр, а группу «наших», объединенную эзотерическим знанием. Спектаклям «не наших» достается холодное и безучастное отношение. Автор шаг за шагом показывает, как Чехов недальновидно раскалывает труппу. Неадекватная реакция на кляузу в стенгазете заставляет жаловаться начальству, к нему расположенному, – Луначарскому. Мелкая склока, словно снежный ком, обрастает участниками, идеологическими мотивами и прочим. Победа над оппозицией стала пирровой. Ситуация с оставшимися оказалась взрывоопасной. «Свои» не представляли себе иного руководителя, но были до крайности взнервлены «атмосферой» в театре, в конечном счете, самим Чеховым. Прямо по Аристотелю, источником трагедии является конфликт среди «своих». Причем этот конфликт размыт, неуловим, совсем как в пьесах другого Чехова – Антона Павловича.
В книге Соловьевой несколько героев, но нет персонифицированного антагониста. Есть общий порядок вещей, наползающий злой морок. Не случайно это слово снова и снова всплывает в тексте.
Как ни парадоксально, но по большому счету до определенного момента МХАТу Второму было грех жаловаться на начальство, его баловавшее. Замечательное здание на Театральной площади отдали ему. А ведь на него претендовали и Большой театр, и старший МХАТ. Да, Иван Берсенев, ведавший всеми административными делами, обладал огромной пробивной силой. Но если бы не хотели, то и он бы не помог. Ведь и не таких обламывали. Звание народного артиста Чехову присвоили, в конфликте с оппозицией пошли ему навстречу. Но шел 1928 год, надвигался Великий перелом, эпоха, когда будут совершенно не важны его директорские изъяны, а актерский гений будет и вовсе свидетельствовать против него. Наступала абсолютная несовместимость. В частной неправоте Чехова была правота общего порядка, в книге названная по-лермонтовски «пророческой тоскою».
В выдающейся книге смущает один момент. Автор дважды повторяет слова Бориса Сушкевича о том, что «Вахтангов ненавидел Христа». Первый раз доверчиво (с. 322). Второй раз с сомнением – так ли уж было дело (с. 410). Конечно, мимо такого высказывания историку пройти трудно. И все же хотелось бы знать, когда сказал, кому, при каких обстоятельствах? Очень не хватает сноски. Как высказывание соотносится с другими источниками? Есть свидетельство Марии Кнебель (оно также приведено, но по другому поводу): «Однажды он [Михаил Чехов] сообщил нам, что Вахтангов мечтает об инсценировке Евангелия». Наверное, было бы насилием над материалом предположить, что эту мечту питала ненависть.
Как ни удивительно, но нынешний театр и нынешние времена оказываются похожи на далекие 20-е годы. С той разницей, что гениальность тогда еще была возможна.
Книга Инны Соловьевой – книга не столько ответов и выводов, сколько размышлений и вопросов. Она оставляет читателя в состоянии экзистенциальной тревоги.
Владислав ИВАНОВ
