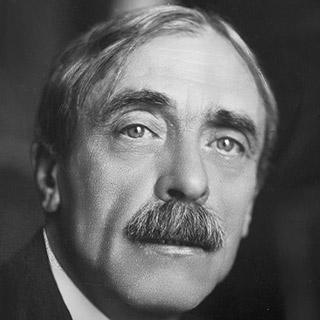 Предлагаем читателям три главки из парижской части “Книги ожиданий” В.М.Гаевского, заключительной книги мемориальной трилогии, посвященной избранным персонажам театральной и интеллектуальной жизни XX века. Книга должна выйти из печати осенью в издательстве РГГУ.
Предлагаем читателям три главки из парижской части “Книги ожиданий” В.М.Гаевского, заключительной книги мемориальной трилогии, посвященной избранным персонажам театральной и интеллектуальной жизни XX века. Книга должна выйти из печати осенью в издательстве РГГУ.
Два интеллектуала
По-видимому, они не слишком интересовали друг друга. Знаменитые парижане, ставшие знаменитыми в начале 20-х годов, они жили в разном историческом времени и работали в разном интеллектуальном пространстве. Старший, Поль Валери, родившийся в 1871 году, был мыслителем и поэтом. Младший, Жан Кокто, родившийся в 1889 году, был поэтом и драматургом. Но также эссеистом, художником, актером и кинорежиссером. С Полем Валери искала знакомства вся мыслящая Европа; Жан Кокто вел знакомство со всей Европой авангардистской. И вот тут проходила линия размежеваний: Валери размышлял о судьбах европейской цивилизации, Кокто участвовал в экспериментах европейского модернизма. Пути цивилизации и модернизма стали драматически расходиться именно в 20-х годах, и, забегая вперед, скажем, что на гребне этого волнения культурных основ возник третий участник драмы – мятежный мученик Антонен Арто, отвергший обоих, и оба предложенных ими проекта, классический и модернистский.
Валери и отторжение модернизма
Поль Валери был женат на племяннице Берты Моризо, знаменитой художницы из круга Эдуарда Мане, считался в этом кругу своим, дружил с Эдгаром Дега (хотя Дега не был человеком, с которым можно было дружить) и написал несколько классических текстов, посвященных импрессионистам. Но за пределы этого круга Валери-мемуарист и Валери-художественный критик не выходил. Ни слова о Пикассо, ни слова о Матиссе, ни слова о художниках парижской школы. Многозна-чительное молчание, демонстративная оппозиция всему тому, что в изобразительное искусство принес ХХ век, век фундаментальных открытий. При этом в своей области, а, точнее, в своих двух областях – в области мысли и в области поэзии, Валери – человек именно ХХ века. Он в курсе трудов великих математиков, не понаслышке знаком с теориями великих физиков, восхищается Эйнштейном, предвосхищает семиотиков и даже участвует в сборнике сюрреалистов. В поэзии сюрреалистов (и даже в поэзии дадаистов) его привлекает работа с поэтическим языком, подобно тому, как петроградских формалистов, создавших ОПОЯЗ, интересовала работа со словом не только гениального Хлебникова, но и заумного Крученых. Иначе говоря, тут, в сфере современной поэзии, Валери не только творец, но и исследователь, ученый-лингвист, ученый-филолог. А там, в сфере новейшей живописи, так же как и новейшего театра и новейшего кино, он отсутствует, он неумолим, если не равнодушен.
Что же, собственно, не устраивает в модернизме великого интеллектуала Поля Валери?
Вот фрагмент знаменитого эссе Валери “Кризис духа”, написанного в первый послевоенный год – 1919-й, но посвященного духовной атмосфере последнего предвоенного года – 1914-го: “Европа 1914 года дошла, пожалуй, до пределов этого модернизма. Любой мозг известной высоты служил перекрестком для всех видов мнений…” И дальше: “В некоей книге того времени – отнюдь не худшей – можно найти безо всякого усилия: влияние русских балетов, крупицу темного стиля Паскаля, изрядную толику впечатлений гонкуровского типа, кое-что от Ницше, кое-что от Рембо, кое-какие впечатления, обусловленные посещениями художника, и кое-где тон научных трудов, – все это сдобренное запахом чего-то, так сказать, британского, трудно дозируемого!..”
Это, конечно, своеобразный – в манере Валери – портрет, данный в слове интеллектуальный портрет эпохи. Поразительным образом напоминающий живописные портреты Пикассо – кубистские портреты человеческих лиц со сдвинутыми носами, глазами, губами. И там, и там сумбур – сумбур в человеческой голове в первом случае, сумбур в форме человеческой головы во втором, сумбур как предмет описания в эссе, сумбур как творческий метод на картине. Иначе говоря, тип сознания, который Валери отвергает, утверждается Пикассо (родившимся на десять лет позднее). Этот тип сознания, неприемлемый для Валери, включает в себя нечто очевидное, а именно следование быстро меняющейся интеллектуальной моде, и нечто не столь очевидное – близость к безумию, безумию разума, безумию утраченного смысла. На модернистских портретах Пикассо мы все это находим: портретное безумие, безумие живописи, изображенное модным художником, нисколько не утратившим своего умного мастерства, своей власти над профессией, над искусством.
В дальнейшем расхождение мыслителя и художника достигает крайней точки. В 1937 году Пикассо пишет свою “Гернику”, а Валери – изящнейшее (как утверждают искусствоведы) эссе “Человек и раковина”, совсем далекое от актуальных впечатлений. Картина Пикассо напоминает фреску Леонардо “Тайная вечеря”, но изображает другую вечерю и другую фреску: фреску, разлетающуюся на куски, и вечерю после взрыва. На холсте огромных размеров фрагменты человеческих тел, и сама картина кажется обдуманно построенной композицией фрагментов. Полная противоположность леонардову методу, который двадцатипятилетний Валери определял в первой своей значительной работе. В этом весьма отвлеченном и почти лишенном конкретной аналитики труде есть и такие слова: “На заднем плане его “Тайной вечери” – три окна. Среднее – то, что открыто за спиной Иисуса, – отделено от других карнизом в виде круглой арки. Если продолжить эту кривую, мы получим окружность, в центре которой оказывается Христос. Все главные линии фрески сходятся в одной точке; симметрия целого соотнесена с этим центром и вытянутой линией трапезного стола”. Этот несложный формально-композиционный анализ у Валери связан с общим представлением об универсальности, разумности и внутреннем единстве того, что являет собой система Леонардо, идеального художника-ученого и тем самым по существу антимодерниста. Какие уж тут фрагменты.
Но для нас интересно, что первым из модернистских достопримечательностей в списке Валери фигурирует русский балет, то есть балет Дягилева, Фокина, Бакста и Бенуа, Анны Павловой, Вацлава Нижинского и Тамары Карсавиной, а также других участников дягилевской антрепризы. Чуждое Валери чрезмерно декоративное, чрезмерно эмоциональное искусство, не основанное на интеллектуальных основаниях. В противовес этому далекий от практических авантюр Валери даже пишет в 1931 году мелодраму “Амфитрион” на музыку Онеггера для танцовщицы-дилетантки Иды Рубинштейн (и по контрасту с “Орфеем” Кокто, более легкомысленным сочинением). Но может быть, говоря о предвоенном русском балете, Валери имеет в виду “Весну священную”, поставленную в конце мая 1913 года. В этом случае линия размежевания прочерчивается еще более четко. Музыка Стравинского – взрыв витальных сил, еще не использованных и еще не покалеченных войной, а тексты Валери – концентрация интеллектуальной энергии, именно после войны осознавшей свою человечность. Модернизм – избыток витальности при недостатке организующей мысли, так можно понять установку Валери, так можно объяснить его настороженное отношение к дягилевскому избыточно красочному, избыточно чувственному, избыточно витальному балету. Всем этим Дягилев поразил Париж еще в 1909 году и поражал в последующие годы. Но Валери в стан продягилевски настроенных балетоманов не вошел, зато Кокто туда попал после первых же спектаклей.
Кокто и очарование модернизма
Двадцатилетний поэт Жан Кокто как-то мгновенно сблизился с почти сорокалетним Дягилевым – он умел быть и необременительным, и незаменимым. В точных и легких набросках он зарисовал происходящее за кулисами, а к балету “Видение розы” 1911 года, по заказу Дягилева, подготовил две афиши, оказавшиеся абсолютными шедеврами цветной графики. На одной афише в профиль изображен Нижинский, на другой афише в профиль изображена Карсавина, это, в сущности, афиши-портреты, жанр, увековеченный Тулуз-Лотреком. Горького лотрековского сарказма здесь нет как нет, есть лишь лотрековская нервная декоративность, лотрековская гротескная линия, но всему довлеет другое – очарованный взгляд художника-портретиста. Очарован художник своими моделями, их изогнутыми грезящими телами, их отсутствующими непробужденными лицами, – как и он сам, это зачарованные персонажи прекрасной театральной сказки. Очарован художник и соблазнами, которые предлагает ему новый балет и вообще новое искусство. Два афишных портрета или, иначе, два портретных плаката – манифестация модернизма, русского, балетного, и парижского, живописного. В них запечатлены неразрывно связанные друг с другом образы стильности (особенно в фигуре Карсавиной) и дикарства (особенно в фигуре Нижинского), маньеризм и фовизм, две стороны модернистской медали. И даны два чистых тона, на которых основана модернистская выразительность – интенсивно-зеленый фон и светло-бежевая окраска тела танцовщика, интенсивно-синий фон и светло-охристая окраска пачки балерины. Повсюду нежная гармония и резкий контраст, всему присущ острый шарм, и все граничит с шалостью, шуткой и даже с карикатурой.
В 1917 году Кокто даже переступил через эту границу: для дягилевской антрепризы он придумал балет “Парад”, с участием начинающего балетмейстера Леонида Мясина, широко известного в авангардистских кругах композитора Эрика Сати и художника Пабло Пикассо, широко известного уже во всем мире. Кокто набросал либретто, Мясин сочинил танцевальный текст, Сати сочинил музыкальный текст, а Пикассо написал занавес – первый из своих знаменитых занавесов к дягилевским балетам. А кроме того, Пикассо соорудил – в буквальном смысле соорудил – два небывалых кубистских костюма в виде нью-йоркских небоскребов. “Парад” изображал шествие-парад номеров бродячего цирка: акробатов, китайского фокусника, американских менеджеров (каждый из которых и носил на спине небоскреб) и даже коня. Вызывающий и отчасти скандальный спектакль означал разрыв с романтическим прошлым дягилевского балета и вступление в новую для него урбанистскую эру. И, одновременно, поворот в сторону иронии, снижающей усмешки. А для все еще молодого Кокто это означало возвращение модернизма к детской игре, к радостной, ничем не омраченной забаве, которая тем не менее чревата гибелью, соседствует со смертью.
Таков, впрочем, его стиль, “стиль Кокто”. Такой он и в молодости, и в зрелых годах, и в старости. И в театральных афишах, и в театральных сценариях, и в театральной литературе. Известность, а потом и слава, пришла к нему после написания пьесы “Орфей” (1925) и после создания фильма на основе этой пьесы (1949). Впервые в серьезной французской драматургии Кокто использует прием, изобретенный Оффенбахом (а точнее – его либ-реттистами Мельяком и Галеви): обращение к сюжетам античной мифологии и перенесение действия в современность. Оффенбаховская ирония не умерла, да и о самом Оффенбахе Кокто написал прочувственные (и весьма содержательные) строки. Но он пошел дальше. В пьесе “Орфей” среди действующих лиц у Кокто – одаренная особыми способностями лошадь, лошадь-медиум (снова лошадь, как и в “Параде”). Отвечая на вопросы Орфея, она ударами копыт сообщает – по буквам – ответ и тем самым связывает живых людей с умершими, этот свет с тем светом. А затем на сцене появляется и сама Смерть – в образе деловой француженки, разъезжающей в автомобиле. Эти гротескные ходы мысли не остались без повторения, хотя с помощью других метафор – у Ануя и Сартра в 40-х годах, у Жироду – еще раньше.
Арто и его двойник
Он имел одно виденье,
Непостижное уму…
А.С. Пушкин. Сцены из рыцарских времен
Виденье было – виденье какого-то небывалого театра. И всю недолгую сознательную жизнь он, Антонен Арто (1896–1948), актер, режиссер, писатель и мыслитель, стремился постичь умом это виденье, постичь умом и определить в слове. Писал статьи, писал манифесты, писал дополнения к ним, писал дополнения к дополнениям, разъяснял читателям и самому себе не всегда доступный, не всегда понятный, не всегда приятный смысл написанного – напряженная работа сильного, даже сказочно сильного интеллекта, что, вне всякого сомнения, и повредило интеллект и стало причиной умственного расстройства. Это, а не только наркотики, к которым, как рассказывает недолгий друг и верный, но и независимый ученик Жан-Луи Барро, Арто вынужден был прибегать, спасаясь от не проходящей головной боли. Так что же? В самом деле “рыцарь бедный” из знаменитого стихотворения Пушкина, написанного в 1829 году, почти ровно за сто лет до начала актерской карьеры Арто, игравшего в спектаклях и кинофильмах? Пушкинский рыцарь бедный – “молчаливый и простой”, актер Арто – парижский интеллектуал, он же парижский скандалист, устраивавший шумные скандалы на обедах и на приемах в респектабельных буржуазных семействах. Что между ними общего? Достаточно много. Потому что нечто рыцарское и даже нечто монашеское в Арто существовало всегда, недаром его лучшей ролью стала роль монаха Массье в знаменитом фильме Дрейера “Страсти Жанны д’Арк”. Его монах – юноша с прекрасным лицом и горящими, поразительно умными глазами, единственный в фильме, кто сочувствует Жанне, молится за нее и, может быть, ее любит. Игравшая Жанну великая актриса Фальконетти, как известно, попала в психиатрическую больницу. По той же дороге пошел Антонен Арто, там он провел десять лет, и в самом деле “рыцарь бедный”, там он и умер.
Но свои десять лет (1927–1937) он прожил, как метеор, сгорел, как метеор, и осветил, как метеор, французскую сцену.
 На рекламном жаргоне его можно назвать так: самая яркая звезда на парижском театральном небосклоне 30-х годов ХХ века. Яркая личность, яркая, хоть и страшная судьба, взыскание всего яркого, но и страшного – на реальной театральной сцене, в своих театральных фантазиях, в своих, посвященных театру, литературных текстах. В поисках ярких, но и страшноватых впечатлений Арто едет в Мексику, страну Сикейроса и Диего Риверы, страну революций, страну, где получил политическое убежище Лев Троцкий, где на него совершали покушения и где он был убит, зарублен альпенштоком. Туда же, как мы знаем, дорога потянет и Сергея Эйзенштейна. В надежде на яркие, но и страшноватые впечатления Арто, еще до отъезда в Мексику (а потом и в Исландию), пишет книгу “Театр и его двойник”, где собирает воедино сенсационные статьи и где использует в качестве основополагающих понятий две предельно яркие, но и предельно брутальные метафоры: театр и чума, театр и жестокость. Чума и жестокость – более или менее привычно звучащие в наше время слова: “коричневая чума”, “жестокий талант”, но тогда, в 1932 и 1934 годах, когда профетически-теоретические работы Арто впервые были опубликованы в виде отдельных статей, эти сближения и эти отождествления звучали вызывающе, звучали провокационно и, в самом деле, – пощечиной общественному вкусу. Даже пятнадцать лет спустя, когда очевидный последователь Арто (в молодости), прозаик и драматург Альбер Камю издает роман с подобным названием (“Чума”, 1947), подобными же пугающими подробностями, но совершенно с другим смыслом, даже спустя два года после окончания Второй мировой войны, метафора чумы, уже не казавшаяся скандальной, но еще далеко не ставшая банальной, – даже тогда она больно ударяла по нервам. А в 1933 году, когда Арто прочитал свою лекцию о театре-чуме в Сорбонне, и в 1934-м, когда опубликовал ее в виде журнальной статьи, и в 1938-м, когда поместил ее в книге, – в те годы, когда только готовилась и только что прошла Всемирная выставка в Париже, демонстрировавшая торжество цивилизации над всем тем, чем опасна неразумная природа, а тем более над всякими гнилостными эпидемиями, – представить чуму как спасительный и чуть ли не сияющий образ современного театра мог позволить себе лишь безответственный безумец, каким сорокалетний Арто, конечно же, не был. Пока еще не был.
На рекламном жаргоне его можно назвать так: самая яркая звезда на парижском театральном небосклоне 30-х годов ХХ века. Яркая личность, яркая, хоть и страшная судьба, взыскание всего яркого, но и страшного – на реальной театральной сцене, в своих театральных фантазиях, в своих, посвященных театру, литературных текстах. В поисках ярких, но и страшноватых впечатлений Арто едет в Мексику, страну Сикейроса и Диего Риверы, страну революций, страну, где получил политическое убежище Лев Троцкий, где на него совершали покушения и где он был убит, зарублен альпенштоком. Туда же, как мы знаем, дорога потянет и Сергея Эйзенштейна. В надежде на яркие, но и страшноватые впечатления Арто, еще до отъезда в Мексику (а потом и в Исландию), пишет книгу “Театр и его двойник”, где собирает воедино сенсационные статьи и где использует в качестве основополагающих понятий две предельно яркие, но и предельно брутальные метафоры: театр и чума, театр и жестокость. Чума и жестокость – более или менее привычно звучащие в наше время слова: “коричневая чума”, “жестокий талант”, но тогда, в 1932 и 1934 годах, когда профетически-теоретические работы Арто впервые были опубликованы в виде отдельных статей, эти сближения и эти отождествления звучали вызывающе, звучали провокационно и, в самом деле, – пощечиной общественному вкусу. Даже пятнадцать лет спустя, когда очевидный последователь Арто (в молодости), прозаик и драматург Альбер Камю издает роман с подобным названием (“Чума”, 1947), подобными же пугающими подробностями, но совершенно с другим смыслом, даже спустя два года после окончания Второй мировой войны, метафора чумы, уже не казавшаяся скандальной, но еще далеко не ставшая банальной, – даже тогда она больно ударяла по нервам. А в 1933 году, когда Арто прочитал свою лекцию о театре-чуме в Сорбонне, и в 1934-м, когда опубликовал ее в виде журнальной статьи, и в 1938-м, когда поместил ее в книге, – в те годы, когда только готовилась и только что прошла Всемирная выставка в Париже, демонстрировавшая торжество цивилизации над всем тем, чем опасна неразумная природа, а тем более над всякими гнилостными эпидемиями, – представить чуму как спасительный и чуть ли не сияющий образ современного театра мог позволить себе лишь безответственный безумец, каким сорокалетний Арто, конечно же, не был. Пока еще не был.
А кем же он был?
Он был просвещенным визионером, к тому же достаточно трезвым. Трезвый визионер – что означает подобный оксюморон? Многое, и прежде всего критическое отношение к духовному и моральному климату послевоенной и предвоенной эпохи. И что стояло за брутальными метафорами Арто? Тоже очень многое. Чума – метафора смертельной опасности, возвращающая человека к почти утраченному ощущению жизни – тому ощущению, которое – по мысли Арто – утратила и европейская культура. Жестокость – метафора, а точнее прием, прием морального врачевания и способ оставить человека наедине с самим собой, получить его подлинный, незамутненный и не идеализированный образ, что тоже, как полагает Арто, стало недоступно культуре. Книга “Театр и его двойник” открывается предисловием “Театр и культура”, где Арто предъявляет культуре суровый счет, отказывает культуре в доверии и по существу, если сложные конструкции текста осторожно упростить, обвиняет культуру в малодушии, в страхе перед жизнью. Во всем этом очевидный след Ницше, его философии жизни, и такой же очевидный след Фрейда, его психоанализа. Арто лишь доводит ницшеанство и фрейдизм до некоего сверхмаксималистского предела, но при этом не выходит – или старается не выходить – за границы искусства.
Стремясь реализовать свои теории на практике и воплотить свое “виденье” хотя бы на сцене второразрядного театра Фолли-Ваграм, Арто ставит в 1935 году трагедию Шелли “Ченчи”, где сам играет полубезумного сластолюбивого итальянского аристократа Ченчи, покусившегося на честь собственной дочери, благородной девушки Беатриче. Тем самым Арто доводит до крайних, мучительных пределов свое горькое, свое неизменное убеждение, что под покровом культуры в недрах человека таится сексуальное чудовище, ненасытный зверь и побороть этого зверя можно только ответным зверством. Бедная Беатриче, пережив потрясение, убивает родного отца, за что ее судят и приговаривают к жестокой смерти. Ситуация, как мы видим, совершенно контрастная по отношению к той, что Арто играл в “Страстях Жанны д’Арк”, и персонаж его, злодей, прелюбодей и насильник-аристократ, нисколько не напоминает скромного монаха Массье, но здесь и там – один и тот же Арто, человек тонкой души, человек фанатичной идеи.
В этих противоречиях, в этих безжалостных крайностях, в этих несовместимых причудах ума – вся сложность его натуры.
Свою лекцию “Театр и чума”, как уже говорилось, Арто читал в Сорбонне. И по своему облику, и по своему образу мысли Арто, если бы этого хотел, мог сойти за сорбоннского профессора – но только не новейшего гуманитарного, а какого-то старинного медицинского факультета. С такой точностью, даже дотошностью описано течение чумы, с такими подробностями дан анализ болезни. Но сорбоннский профессор Антонен Арто таил в себе сорбоннского либертина Антонена Арто (такое тоже бывает), а либертин, то есть вольнодумец, Арто таил в себе фанатика и иконоборца. В 1935 году Арто пишет статью “Покончить с шедеврами”, предлагая оставить их прошлому, так же как классным наставникам и эстетам, и в этом же году играет роль Савонаролы в спектакле “Лукреция Борджиа” режиссера Абеля Ганса. Но в том же знаменательном году он видит первый режиссерский спектакль Жана-Луи Барро “Вокруг матери” и посвящает спектаклю рецензию, вошедшую в книгу. А за четыре года до того Арто видит гастроли танцевальной группы с острова Бали (небольшой остров индонезийского архипелага) и пишет большую рецензию, тоже помещенную в книге. Обе рецензии – образец глубокой, утонченной, эстетически безупречной аналитики – никакой одержимости, никакого Савонаролы. И оба спектакля приводятся в книге как образцы подлинного театра.
Какое отношение балийские танцовщики и почти раздетые актеры Барро имели к чуме? Очень далекое, если вообще имели. Зато театр с острова Бали имел отношение к древнему, почти первобытному магическому ритуалу и располагал разработанной техникой телесных движений, не нуждавшейся в слове, приводившей исполнителей в транс и сводившейся к так называемому “магическому” жесту. Это главная идея Арто – замена западного театра слова на восточный театр жеста. К театру слова он относился как к болезни и как к высшему злу, имея в виду и французскую театральную традицию вообще, традицию Расина и Мольера, и, что несомненно, театральную практику Луи Жуве и драматургию Жана Жироду, блистательного острослова. Чем меньше слов, тем больше театра – такова суровая установка Арто, такова его рецептура. Всем этим восхитили его танцовщики Бали, и это же он увидел в спектакле Барро “Вокруг матери”, прошедшем всего четыре раза.
Судя по всему, это был совершенно необычный и, может быть, даже великий спектакль. В коротких отрывках и без участия других исполнителей Барро показывал “Вокруг матери” на своих лекциях-концертах, так что некоторое представление о том, что было в 1935 году, мы имеем. А в своей книге “Воспоминания для будущего” Барро писал: “Драматическое действие пьесы продолжается два часа, а диалога в ней минут на тридцать.
Это «звуковой» театр, в котором актеры ничего не говорят. Если слышно, как они дышат, ходят, – это хорошо. Актеры изображают и своих персонажей, и то, что их окружает: река, пожар, скрежет пилы по дереву. Актер-инструмент, умеющий все…» Но таким актером-инструментом (прервемся на миг) был лишь один Барро, вероятно, поэтому спектакль прошел всего четыре раза. Продолжим рассказ: «Мать умирает. Старший сын готовит гроб. Хрипы в груди звучат в унисон со скрежетом пилы…» Это тоже требует комментария: сын готовит гроб еще при жизни матери не потому, что он так бесчувственен, бесчеловечен, душевно груб, а по требованию самой матери и потому, что таков порядок вещей и он не должен прерываться. Вот идеальный театр жестокости в интерпретации молодого Барро, тут не противоестественная жестокость насилия, преступления и смертоубийства, тут естественная жестокость самого устройства жизни. Но продолжим: «Весь театр в предсмертной агонии, ритм насоса, ритм биения пульса, и внезапно, на глубоком вдохе, дыхание останавливается навсегда. Рука приподнявшаяся, как если бы мать вздумала посмотреть вдаль, медленно опускается в тишине – так понижается уровень воды… Жизнь постепенно уходит из тела, которое превращается в одеревенелый труп. Мать умерла». Еще раз прервемся. Жест руки, описываемый Барро, и есть тот «магический» жест, о котором говорил Арто, то есть не бытовой, психологический, а символический, ритуальный. Но Арто имел в виду и более широкий смысл, и более яркое воплощение несколько абстрактной идеи жеста. Процитируем Барро в последний раз: «У побочного сына есть страсть – лошадь. На своем коне он совершает весь путь рядом с тележкой, перевозящей гроб. Меня это привлекало – быть человеком и лошадью одновременно. И на этот раз мне хотелось, чтобы актер был универсальным инструментом, способным воплотить и животное, и наездника – оба переходят вброд или подвергаются преследованиям хищных птиц. Играть живое существо и пространство».
Этот кентавр – главный аттракцион и главное событие спектак-ля. Одно из главных событий в жизни Барро, и в сокращенном виде: подчинение дикого животного человеческой воле, превращение необъезженного коня в ипподромного скакуна и цирковую лошадь – Барро демонстрировал номер в своих поздних концертах. Он был чрезвычайно эффектен, но длился не очень долго. В спектакле 1935 года он длился почти десять минут. Десять минут! – целая вечность для пантомимного соло. И скептик Арто был совершенно покорен: «В спектаклях Жана-Луи Барро присутствует нечто вроде волшебного коня-кентавра, и отклик наших чувств на него был таким сильным, как будто, введя такого коня-кентавра, Жан-Луи впустил в наш круг саму магию… Именно там, в этой священной атмосфере, Жан-Луи Барро импровизирует движения дикого коня, и мы внезапно переживаем потрясение, увидев, что он в этого коня превратился. Его спектакль подтверждает неотразимое воздействие жеста, он победно доказывает важность жеста и движения в пространстве. Он сообщает театральной перспективе ту значимость, которую ей не следует больше терять. Он наконец-то превращает сцену в патетичное и живое место».
Конечно же, Арто, оппонента любой европейской культурной формы, подкупило и то, что Барро в своем первом спектакле тоже не считается с культурными условностями и театральными табу: «Максимальная нагота – прикрыто лишь то, что могло бы отвлечь внимание» (Ж.-Л.Барро. Воспоминания для будущего).
И конечно, одинокий бунтарь Арто не мог не увидеть в Барро своего Двойника, того таинственного Двойника, о котором он не очень понятно пишет в своей книге. Они поначалу тесно дружили, Арто и Барро, но потом их пути разошлись – и потому, что юноша Барро очень быстро
взрослел, а мудрый Арто так же быстро заболевал, и потому что Барро скоро вернулся в лоно культуры и к театру слова. С 1940 по 1946 год, в самые критические дни для Парижа, для Франции и для французского искусства, Барро возглавляет Дом Мольера – театр «Комеди Франсез», там ставит и играет классические трагедии, ставит и играет «Атласную туфельку» Поля Клоделя, первую свою постановку клоделевских пьес, полных воодушев-ленной риторики, словесной экс-пансии и патетических восклицаний. Потом Барро поставит и другие драмы Клоделя. Потом он станет режиссером-интерпретатором и режиссером-пионером, дающим сценическую жизнь всему новому во французской драматургии, авангардистский пыл в нем не угаснет, но крайности авангардистской мысли в нем не найдут поддержки. Он был пластичным, Жан-Луи Барро, пластичным не только в профессиональном, телесном смысле – что и позволяло ему творить чудеса на театральной сцене, но и в человеческом, душевном смысле, что позволило сразу после анархистской, площадной «Нумансии» возглавить академический «Комеди Франсез», а после казенного Дома Мольера пуститься в рискованное плаванье, создав частную Компанию Рено-Барро, просуществовавшую долго. Он не избегал и не боялся перемен, наш друг Жан-Луи, бывавший у нас и хорошо знавший историю нашего театра. А его наставник Антонен Арто, так много и так увлекательно писавший о пластичности актерской игры, пластичным не был и превратил свою жизнь в один неколебимый и неумолимый жест, гибельный жест, обращенный в никуда, экстатический жест, обращенный к видению, которое ускользало.
С точки зрения сугубо театроведческой важна другая антитеза: Арто – Брехт, хотя Арто о Брехте ничего не знал, а Брехт Арто никогда не видел. Тем не менее, сближает их одно и то же понятие – жест, гестус по Брехту, а различает значение, которое каждый из них вкладывает в это слово. Для Арто жест – прямой и единственно верный путь к актерскому трансу, о котором он говорил в связи с театром Бали и в котором видел окончательный смысл, торжество и высокое назначение театрального спектакля. Тогда как для Брехта актерский жест – путь к так называемому «очуждению», то есть к освобождению от актерских эмоций, охлажденный контроль над своим подсознанием, чисто рациональная конструкция и чисто рациональный актерский метод. Брехт видел в трансе искажение человеческой природы и наблюдал, в какой транс вводят толпу политические демагоги. Значит ли это, что Арто был аполитичен или что не отличал политическую демагогию от магического ритуала? Тем более что психические механизмы того и другого опасно близки и нередко совпадают. Барро, если опять-таки вспомнить о нем, это прекрасно понял. Арто, если можно об этом судить, в конце 30-х годов уже начинал блуждать в потемках. Сохранились его автопортреты, написанные в клинике уже в 40-х годах, незадолго до смерти – вконец исхудалое лицо, словно бы пораженное столь подробно описанной им ужасной болезнью. И сохранился голос его, тоже записанный тогда, хриплый голос человека, впадающего в транс, хриплый вопль человека, измученного страданием и болью. Монолог актера, играющего в театре жестокости, а может быть, монолог-виденье, воображаемый монолог Жанны в последние минуты ее жизни.
А «театр жестокости» был все-таки создан, но не на театральной сцене, а на живописном панно – на знаменитой картине «Герника», написанной Пикассо в роковом 1937 году, ставшем и для Арто последним годом свободы.
P.S. И под конец еще несколько бессмертных пушкинских строк:
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог…
А.С.Пушкин. «Пир во время чумы»
Послание Камю
Свою знаменитую пьесу «Калигула» Альбер Камю начал писать в 1938 году, в том самом году, когда, в начале февраля, в Париже была опубликована тоже сразу же ставшая знаменитой книга Антонена Арто «Театр и его двойник». Слышал ли двадцатипятилетний алжирец о сорока-
двухлетнем парижанине, читал ли он его книгу, был ли с ним знаком – нам неизвестно. Хотя в своих киновоспоминаниях один из свидетелей говорит о том, что на последнем публичном выступлении уже тяжело больного Арто – в Театре Старой голубятни – присутствовал, среди других знаменитостей, и Камю, так что хотя бы неполное знакомство могло состояться.
Важнее другое.
Пьеса «Калигула» полностью совпадает с представлениями Арто о «театре жестокости» и может быть сопоставлена с трагедией Шелли «Ченчи», которую перевел и поставил на сцене Арто, сыграв в ней главного героя, омерзительного итальянского аристократа. Итальянский граф Ченчи и римский император Калигула – представители одной театральной семьи, актеры одного амплуа – персонажи-злодеи. Но разница велика: Калигула в пьесе Камю не сразу становится на путь злодеяний, это впавший в тоску философ, падший ангел, опьяненный властью тиран, одержимый маниакальной идеей поэт, и это движение поэзии не вверх, а вниз, не к добру, а ко злу завораживало (и продолжает завораживать) режиссеров, ставивших пьесу, и актеров, игравших заглавную роль злодея-поэта. Первым исполнителем ее был не кто иной, как Жерар Филип, надежда французского послевоенного театра, надежда французского послевоенного кино, воплощение молодости, таланта и самых смелых, самых радужных ожиданий. Корнелевский Сид на сцене, полуфольклорный Фанфан-Тюльпан на экране, отважный и великодушный Сид, отважный и простодушный Фанфан, а к тому же отважный и прямодушный принц Гомбургский, отважный и вынужденно криводушный Лорензаччо – и вот теперь история чистого, но не великодушного, и нисколько не простодушного юноши, ставшего тираном, упивающегося своим тиранством. Это новая тема в искусстве – история человеческого падения, человеческой деградации, не вызванной внешними обстоятельствами, зерна которого заложены в самом человеке. История, волновавшая Лукино Висконти, поставившего на эту тему великий фильм «Людвиг». Но Люд-виг – вырожденец, а не злодей, романтических крайностей классически мыслящий герцог-режиссер себе не позволяет. А неодекадент (молодой Камю был по существу неодекадентом, как, впрочем, и молодой Арто) никаких границ для себя не признает, образы зла, хотя и не завораживают его, но в художественном смысле и не отвращают, он работает на территории театра жестокости и даже свой первый роман посвящает тому же бедствию, которому Арто посвящает свою первую публичную лекцию, то есть чуме: так и названа книга.
Но здесь начинаются расхождения, здесь Камю выходит на свою дорогу. Потому что чума Арто и чума Камю – это разные метафоры: для Арто чума – метафора абсолютного зла, для Камю чума – метафора абсолютного абсурда. Притом, что стиль Камю совершенно не метафоричен, скорее документален, бескрасочен и обстоятелен, как подобает бесстрастному протоколу. Роман – подробная история эпидемии, пришедшей в алжирский город Оран, и, соответственно, достоверное повествование о том, как вели себя горожане. Вели себя по-разному: малодушно, легкомысленно, преступно, подчиняясь неизбежному, стараясь обмануть судьбу. И лишь главный герой, доктор Риэ, продолжает пытаться лечить, упрямо делает свое докторское дело. Этот идеальный герой молодого Камю – модель поведения для него: жить в абсурде, не будучи захваченным абсурдом.
Тут главное – не абсурд сам по себе, абсурд человеческого существования, человеческой жизни. Тут главное – абсурдное действие, действие, которое ни к чему не приведет и, может быть, лишь погубит. На эту же тему Жан Ануй в черном 1942 году написал одну из самых «черных» (как он их называл), но и одну из самых просветленных своих пьес – «Антигону». Бессмысленным было ее действие – совершить запрещенный властью похоронный обряд и по-человечески похоронить мятежного брата Полиника, абсурдным казалось ее молчаливое упорство, наказуемое жестокой смертью. Зачем? – добивался Креон, фиванский тиран, отец жениха Антигоны, циничный политик, деловой человек, решительно не способный понять мотивы племянницы, будущей невестки. Для кого это делается? Кому это надо? И следует ответ: для себя. В двух словах короткая формула этических основ французского экзистенциализма. Лучшие героини классической поры Жана Ануя вообще не слишком красноречивы.
В отличие от лучших героев и героинь Камю, как раз красноречивых спорщиков, но спорящих о самом трудном и самом важном. Таковы персонажи пьесы Камю «Праведники», написанной в 1949 году и посвященной группе Каляева – группе крайних народовольцев, готовивших и совершивших в 1905 году убийство московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, родного дяди императора Николая Второго. Пьеса Камю – не историческая хроника, а интеллектуальная драма, московские террористы столь же достоверны, как и римские патриции «Калигулы», и содержание пьесы, ее первых трех актов – не техническая подготовка к покушению, а споры о нравственной допустимости теракта. О праве на убийство, которое защищает фанатичный революционер Степан и которое отрицают Иван Каляев и его возлюбленная Дора. «Праведниками» (Les Justes) они названы, потому что сами с готовностью идут на неминуемый арест и жестокую казнь, потому что своей жизнью не позволяют себе дорожить больше, чем жизнью своих жертв, изначально виновных. А это очень молодые люди. Как Жерар Филип – вспомним его еще раз, – юношески прекрасный молодой человек, олицетворяющий собой молодую Францию, Францию не после поражения, как персонажи Ануя или Барро, а Францию после победы.
В ранней молодости Камю, еще живший в Алжире, зачитывался Достоевским, инсценировал и поставил в организованном им «Передвижном театре» роман «Братья Карамазовы» и даже сыграл Ивана. Тут многое могло его увлечь – и фабульная основа, связанная с убийством, и сам образ Ивана Карамазова, разуверившегося атеиста и автора «поэмки», и разговор с чертом, и признание черта, что он (как и Калигула) «падший ангел», и слова Ивана о том, что «теперь все поз-волено», и слова Смердякова: «С умным человеком и поговорить приятно», и постоянные споры о самом насущном для ума и души оставленного без веры человека. И жизнь самого Камю – непрекращающийся спор с интеллектуалами-эстетами, интеллектуалами-философами, с Жаном-Полем Сартром, с самим собой. Из этого спора – и из этих раздумий – родилась и его, раздираемая сомнениями, драматургия.
И первое, что можно сказать о ней, что это драматургия молодого человека. Того самого молодого человека, который только-только вступает в жизнь, ищет в ней свое место, свой путь и пытается разрешить самые острые проблемы. Есть ли смысл в жизни и каков он? Что такое свобода и где границы ее? Как соотносятся добро и зло в человеке? Дано ли человеку право убить? И почему именно в молодости – не в старости, а именно в молодости – так подчиняет себе мысль о самоубийстве? На эти темы ведутся горячие дискуссии и в пьесе «Калигула», и в романе «Чума», и в пьесе «Праведники», и в романе «Посторонний». И это не изысканные «debats» великолепного Жироду, это спор без снисхождения и без правил. Взрослея и даже старея, Камю не мог освободиться от обступавших его «проклятых вопросов»! А ответа от него ждали. Такую он взял на себя миссию, такой оказалась его роль – главная роль жизни. И он посылал миру послания, послания-призывы, послания-сомнения, похожие на гамлетовы монологи. И совсем не был похож на своего соратника и оппонента Жан-Поля Сартра, диктовавшего миру правила игры, всякий раз – новые. Мудрый, как змий, Сартр с молодости был стариком, а ищущий истину Камю так и не достиг мудрости, приходящей с годами. Он прожил всего сорок шесть лет и погиб в 1960 году, разбившись в автомобильной катастрофе. Погиб, как гибнут молодые люди – превысив скорость.
P.S. Еще раз повторим: Арто, Сартр, Камю – три имени, необходимые для суждений о довоенном и послевоенном парижском театре. В связи с Арто нам вспомнился пушкинский «рыцарь бедный»; Камю приводит на память киркегоровского «рыцаря веры» – хотя на место Бога Камю поставил другое божество – Абсурд, смолоду поверив в способность Абсурда заместить потерявший доверие Разум; а Сартр, если угодно – это рыцарь безверия, не знающий кризисов и драм, не знакомый с отчаянием, описанным Киркегором. Но отношения между ними двумя складывались драматично. Некоторое время младший, Камю, находился под очевидным влиянием старшего, Сартра, хотя их разделяли восемь лет, трудная алжирская молодость одного, обеспеченная парижская молодость другого, а также некоторые несхожие изначальные моральные установки. Дело в том, что Жан-Поль Сартр, как и многие французские властители дум послевоенного (20-е годы) и второго послевоенного (40-е годы) поколений, искал истину не в своем отчем доме, не у себя, а на стороне, и не только, как Камю, в романах Достоевского и Льва Толстого. Можно вспомнить, что поначалу сплоченные парижские сюрреалисты в 30-е годы совсем рассорились: одни ездили за правдой в Берлин, другие в Москву, и один из самых ярких сюрреалистов поэт Луи Арагон написал даже восторженную поэму «Ура, Урал!», посвященную уральским новостройкам. И, кстати сказать, когда туда же отправился, в составе писательской делегации, наш поэт Борис Пастернак, то он вернулся из командировки совершенно больным, так потрясли его нечеловеческие условия, в которых жили и трудились рабочие на уральских стройках.
И еще о советских рабочих. Позднее, а именно в 1946 году, тогдашний законодатель интеллектуальных мод писатель и философ Жан-Поль Сартр, с которым тогда дружил Камю, в своей знаменитой работе «Экзистенциализм – это гуманизм» написал буквально следующее: «Я не знаю, какая судьба ожидает русскую революцию. Я могу лишь восхищаться ею и взять ее за образец в той мере, в какой я сегодня вижу, что пролетариат играет в России роль, какой он не играет ни в какой другой стране». Да, конечно, в 1946 году престиж Москвы был во Франции очень высок, так высок, как в 1814 году престиж Петербурга. Но все же так заблуждаться или так бессовестно врать не следовало даже беспринципному Сартру. Потом он разочаруется в Сталине, и Сталина сменит Мао Цзэдун, а на смену Мао придет Фидель, и эти колебания отражали судорожные метания почти всех «новых левых». Но так далеко Камю не заходил. В сущности, он и был тем, кто спас честь парижских интеллектуалов. Для этого ему пришлось по-своему применить сартровский софизм.
В полном соответствии с основополагающим тезисом экзистенциализма (как это изложено Жаном-Полем Сартром в цитируемой работе): существование предшествует сущности, Камю не сразу нашел свою сущность, примеряя различные маски – Актера, Дон Жуана, Завоевателя, Художника-Творца (в таком порядке они представлены в трактате-эссе «Миф о Сизифе»), пока окончательно не остановился на роли Творца, а конкретно – писателя-философа, и после нескольких лет работы в театре стал писать пьесы, романы и трактаты. Он начал с упомянутого выше эссе, в котором объяснил абсурд жизни, остроумнейшим образом обыграв ситуацию Сизифа (навечно приговорен таскать на вершину горы тяжелый камень, который тут же сваливается обратно). При этом Камю объясняет, за что Сизифа постигла такая кара. Мифологический Сизиф был разбойником и убивал тяжелым камнем одиноких путников на дороге – вот откуда камень. А Сизиф у Камю – почти философ, почти экзистенциалист, потому софист и потому поэт абсурда. Вот как кончается трактат: «Я оставляю Сизифа у подножья его горы! Ноша всегда найдется. Но Сизиф учит высшей верности, которая отвергает богов и двигает камни. Он тоже считает, что все хорошо. Эта вселенная, отныне лишенная властелина, не кажется ему ни бесплодной, ни ничтожной. Каждая крупица камня, каждый отблеск руды на полночной горе составляют для него целый мир. Одной борьбы за вершины достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе счастливым».
Этот поэтический пассаж следует прояснить и пересказать более прозаическими словами. Речь идет об абсурдном действии – действии, которое не приводит к победе. И о внутреннем согласии с такого рода порядком вещей, о внутреннем соглашении с такими условиями человеческой жизни. Действовать, избавившись от ожиданий, значит жить счастливо и быть свободным, – вот смысл экзистенциалистского абсурда. В 1940 году подобная апология абсурдного действия без ожиданий – воспринималась совершенно однозначно. Рождалось французское Сопротивление. Камю в стороне не остался.
